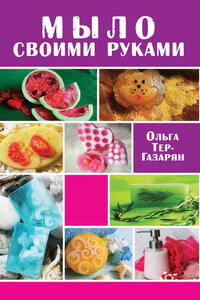Пролог.
– Хороши вечера на Оби, ты, мой миленький, мне подсоби, я люблю танцевать да плясать, научись на гармошке играть. А над Обью плывут огоньки, а над Обью летают гудки, я люблю над рекой запевать, научись на гармошке играть!
– Ну что ты, Макарыч, распелся? Не до танцев в нашем возрасте уже.
– Это тебе, Савельич, не до танцев, а я вон какие коленца выделывать могу, а? Как прежде! Живехонький!
Иван Макарыч, беловласый старичок в дождевых сапогах, заправски выплясал поклон до земли и с довольной улыбкой посмотрел на своего соседа Савельича, тот неласково созерцал лес, хмурясь морщинистым лбом.
– Тьфу – сплюнул на землю он.
– Да как не плясать, Савельич? Смотри, день то какой бравый, солнечный, а в лесу как хорошо, кедрами пахнет, подберезовики зреют, ишь шляпы торчат, точно как твоя! – он пальцем обрисовал в воздухе шапку Савельича, в которой тот ходил зимой и летом – Ох и не хватало мне всего этого!
– Совсем ты, Иван Макарыч, старый стал – покачал головой Савельич – Это не подберезовики, а поганки.
Савельич пнул гриб сапогом, зеленовато-белая шелковистая шляпка отлетела, и перевернувшись, показала чрево черных пластин.
– Черная! – охнул он.
– Погоди-погоди, – подошел Иван Макарыч ближе – Неуж и правда поганки? Я, как тебя вот, подберезовики видел – он всмотрелся зорким глазом в лежбище грибов в траве, поганки белели на солнце, словно альбиносы на юге.
– Не подходи, Макарыч! – Савельич загремел, ударив соседа лукошком – Отойди от них!
Иван Макарыч остановился.
– Черные – тоже ахнул он, наклонившись ближе.
– Черные – встал рядом Савельич – И гнилью пахнут.
– Нехорошо это – забеспокоился Иван Макарыч, оглядываясь по сторонам – Непорядок в лесу. А ну, в чащу пошли, посмотрим.
Они продвинулись до середины леса. Лесок этот был небольшой, светлый, зеленый, но тихий только, и Иван Макарыч с Савельичем притихли, озираясь.
– Вон там – ткнул лукошком Савельич в ветви деревьев – Оно.
На ветке березы висела разорванная беличья шкурка, а возле нее сгустки чего-то черного, как застывший гуталин.
– И вон там – цепенело указал Иван Макарыч в другую сторону, там плотной паутиной висело такое же черное кружево, похоронный платок на голове вдовствующей старухи.
– Придет он скоро – твердо сказал Савельич – Шубу попортил, ты посмотри.
– Сам ищет – согласился Иван Макарыч – Деревья надо заготавливать. Сколько пород нужно?
– Все.
Подлетела на ветку кукушка и уставившись на Ивана Макарыча с Савельичем начала петь свою насмешливую песню. Ку-ку. Ку-ку.
– Не жди, не спросим – бросил ей Савельич.
– На сухом дереве сидит – покосился Иван Макарыч – Подморозит.
– Лето – не согласился Савельич, переминаясь на месте – Нет летом морозов.
– Чего ждать, того не миновать. В этот раз твоя помощь нужна, Савельич.
Буднично старались они поддерживать беседу, замерев среди черных неизвестных сгустков, опасаясь ступить и шагу, топчась на месте. Стало тихо вокруг, только пела кукушка. Ку-ку. Ку-ку. Ку-ку. Ку-кк-ккухкх.
Кукушка захрипела сломанным горлом, вращая бешено черным маслянистым глазом.
– Больше не покукуешь – мрачно посмотрел на нее Савельич, сжимая голову птицы, по его ладони в землю медленно стекала горячая птичья кровь.
Между сорных трав зашелестел поползнем холодный ветер.
Когда Платон поехал в Приобье писать научную работу на тему Кулайской культуры Железного века, с ним отправили девушку. То ли она секретарь, то ли научный работник Платон толком не понял, да его это и не волновало, главное, чтобы не мешала изучать могильники. На словах он собирался составить трактат, в его обычной манере сухой настолько, что в аспирантуре его могли бы окунать в чай вместо сушек, но на деле, в чем Платон до конца не признавался себе, он хотел поставить точку в споре о точном времени возникновения Кулайской культуры, откопать керамику или закрытый комплекс, чтобы решить все споры, а то и разгадать тайну зооморфных символов – фигурок, которым в древности поклонялись кулайцы. Платон удивлялся, как это желание, подобно статическому электричеству, рвущееся из его груди, не было до сих пор замечено никем в институте. Он и не догадывался, что профессорам и студентам все-таки являлся остаточный запал этого чувства, резонирующий от очков. Платон всегда смотрел в упор, угрюмо и колко, как будто хотел расщепить собеседника, а ведь то был даже не институт химии, чтобы умельцы собрали атомы обратно. Кафедра археологии и этнологии предусмотрительно держалась от Платона подальше.