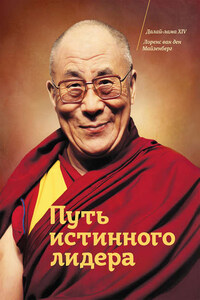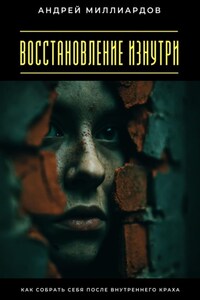Произошло это восемь лет назад, в начале сентября, когда летнее тепло уже почти уступило место сырости и холодным утренникам. Я тогда был в составе добровольного поискового отряда – мы собирались, когда в районе кто-то пропадал, а лес у нас такой, что заблудиться можно буквально в двух шагах от деревни.
Исчезли трое подростков. Мальчишки лет по пятнадцать–шестнадцать, и девчонка – младше на год, может, на два. Говорили, что они вечером пошли к старой заброшенной платформе, что за Новозавидовским лесом, и оттуда в чащу. Почему – никто толком не знал. Но домой они не вернулись. Родители забили тревогу, и уже к обеду мы собирали людей.
Лес там особенный. Он дышит по-своему. Густой, влажный, с низкими кронами, которые словно сплетаются, не пуская свет. Местами стволы так переплетены, что приходится пролезать боком. Старые топи, запах гниющей листвы, невидимые глазу ручейки, из-за которых земля может поддаться под ногой, как тесто. И тропы… Они живут какой-то своей жизнью: петляют, раздваиваются, сливаются обратно. Можешь клясться, что идёшь в одном направлении, а через час выйдешь к той же ели, под которой уже отдыхал.
Туман там держится у самой земли даже в жару. В сентябре он плотный, вязкий, будто молоко, в котором замешана пыльца грибов. Вдыхаешь – и кажется, что он садится в лёгкие, делает дыхание медленным. Днём он только крадёт нижнюю половину мира, но ночью… Ночью он поднимается выше, скрывая всё до самых веток. Кажется, что лес поглотил всё.
Когда мы вошли, лес словно замкнулся за спиной. Шаги стали глуше, дыхание громче.
Мы бродили по этим местам уже третий день. Утро начиналось одинаково: тугой ремень рюкзака на плечах, тяжёлый воздух, пропитанный сыростью, и тихое трескание веток под ногами. Людей в лесу было много – от местных мужиков с термосами и потрёпанными картами до добровольцев из соседних посёлков. Другие гнали по просекам квадроциклы, рычащими моторами вспарывая утреннюю тишину и отгоняя птиц.
Я был в паре с Колькой Яковлевым. Хороший он парень – из тех, кто в деревне всем поможет, а на празднике обязательно окажется в центре стола с баяном или анекдотом. Но в лесу, когда дело касается поиска, у него будто переключатель щёлкает: лицо становится собранным, взгляд – жёстким, без привычной улыбки. Он всегда шёл чуть впереди, внимательно разглядывая землю, кусты, следы. Иногда поднимал руку, чтобы я замер, и тогда мы оба вслушивались: шум ли это в кронах от ветра или что-то другое, то, что могло быть важно.
На третий день усталость вгрызалась в спину и ноги, но Колька держался, как будто мы только вышли из дома. Временами он тихо матерился сквозь зубы, увидев, что очередная тропа снова выводит нас на то же место. Лес петлял, как хитрый зверь, не желая отдавать тех, кого спрятал.
Мы шли целый день, пока дождь лил мелкой завесой, стекающей за воротники и впитывающейся в ткань курток. С каждым часом сырая тяжесть напитанных влагой вещей казалась всё более непосильной, а запах мокрой земли въедался в ноздри.
По мере того, как продвигались вглубь, деревья становились выше и старше. Глухие стволы уходили в темноту, корни вспучивались на поверхность, словно змеи, переплетаясь вокруг тропинок. Даже привычный лесной шум – шелест листьев, потрескивание валежника – здесь звучал иначе, глуше. Иногда мне казалось: тропа, по которой мы идём, не дорога, а вена, по которой движется наше маленькое отрядное сердце, и любой неверный шаг может оборвать эту хрупкую нить. Яковлев то и дело шутил о том, что в таком лесу можно встретить самого черта, но в его голосе слышалась нервная хрипотца.
К вечеру мы добрались до старой просеки – её почти не видно, одни канавы да сгнившие стволы. Это была последняя точка, где находили хоть какие-то следы: отпечатки ботинок на мягком иле, фантик от шоколадки, который теперь лип к ладони мокрой массой. Рация трещала – остальные группы потихоньку возвращались к лагерю. Мы решили пройти ещё немного: времени оставалось часа два до полной темноты. В нагрудном кармане фонаря батарейки уже начинали сдавать, свет мерцал.