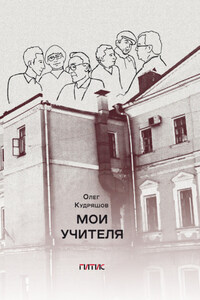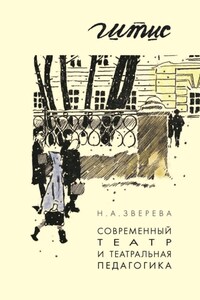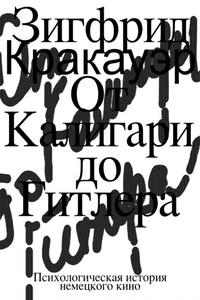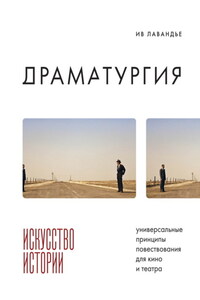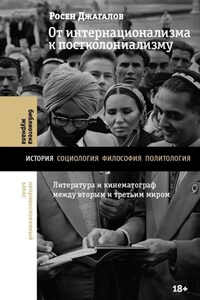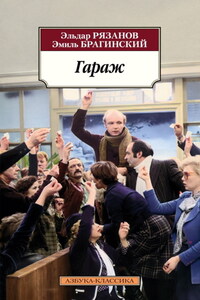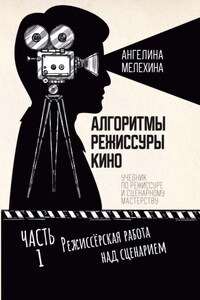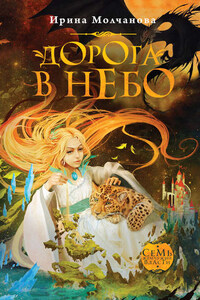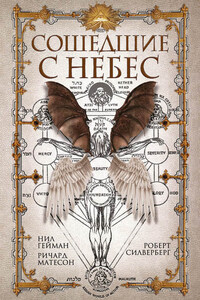Вообще попытка разобраться с самим собой почти в конце жизни заслуживает одобрения или уважения, кому как нравится. Есть ли в этом нужда? Не знаю. Наверное, это бессмыслица – зачем и кому оно нужно? Ничего не исправишь, не станешь другим, не научишься быть умнее, талантливее, мудрее. Поздно, слишком поздно. И тем не менее хочется подвести хоть какой-то итог, понять, что просвистал, чего не понял. Может быть, в назидание другим. Или понять и еще раз сделать себе некий упрек – вот-де цена твоему вниманию, твоей глубине и серьезности. Вот она, расплата за самоуверенность, самодовольство, претенциозность, желание показать себя большим, чем ты есть на самом деле.
Здесь есть своя польза – возможно, хоть и поздно, но я все-таки пойму про себя какую-то последнюю правду, последние усилия окажутся плодотворными, и мне удастся узнать свою истинную цену, перестать обманываться и тешить себя иллюзиями. Надо постоянно очищать себя и свою совесть от никчемушной гордыни, ведь так?
И потом, существует некая преемственность, таинственная связь, не всегда объяснимая словами, между людьми, которых ты выбрал сам или которых бог послал тебе в назидание или предупреждение. И есть громадная благодарность этим людям за их уроки, иногда жестокие и суровые, иногда благодетельные и плодотворные.
Легко, без лишних мудрствований, вспомним тех, кто впечатлил, остался в памяти, открыл что-то ранее неведомое…
Тверь – сравнительно небольшой и уютный городок, он расположился на верхней Волге. Где-то в глубине тверской губернии Волга и берет начало, что составляет предмет некоторой гордости для обитателей этих мест. Когда-то его переименовали в Калинин в честь козлобородого всероссийского старосты и даже установили в память о нем скульптуру в центре города. Громоздкая и достаточно нелепая скульптура перекрывала вид на очаровательный Путевой дворец, построенный Казаковым для императрицы Екатерины. Потом монумент снесли, дворец отремонтировали, и теперь его снова можно созерцать во всей красе. Время некоторым образом делает свое дело.
Среди прочих достопримечательностей города нужно упомянуть и Педагогический институт – несколько старых полуразрушенных зданий, этакое академическое каре в самом центре города. Что-то вроде студенческого кампуса на советский манер. Узкие деревянные лестницы, скрипящие от старости, грубо выкрашенные полы, маленькие комнатки аудиторий. Тут же в одном из учебных корпусов на верхнем этаже помещалось общежитие, откуда по первому звонку вываливалась студенческая братия, состоявшая в основном из крепко скроенных девиц, обитательниц сельских районов. В целом этот вуз в то время представлял собой что-то вопиюще провинциальное, невероятное, неведомо как сохранившееся. И профессура была подстать этому могильному кургану – старческая, поношенная, помятая дремучей жизнью в этом стоячем болоте.
По стечению обстоятельств я имел честь быть некоторое время студентом этого храма науки на факультете, торжественно именуемом историко-филологическим. Там сразу обучали и истории, и филологии. Предполагалось, что выпускник мог объяснить детям, к примеру, революционный пафос повести М. Горького «Мать» и параллельно внятно рассказать им о победе русского оружия в вой не 1812 года. Советская система торжествовала и в педагогике – экономика должна быть экономной. Нечего тратить время и деньги на раздельное обучение – не университет, чай!