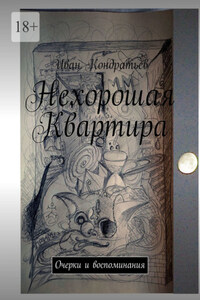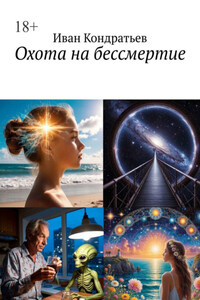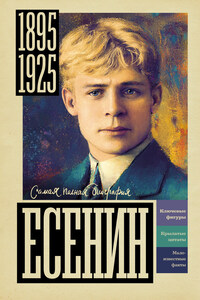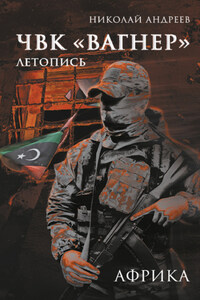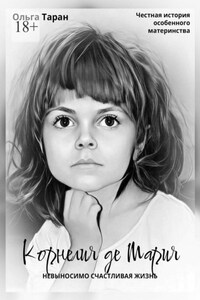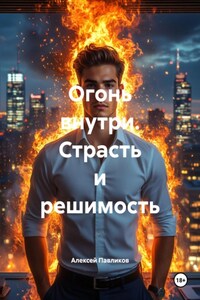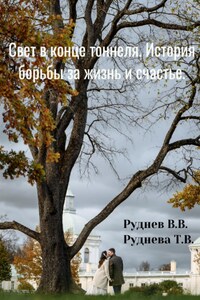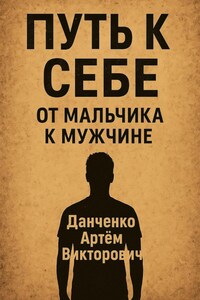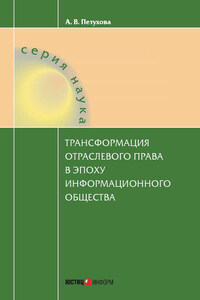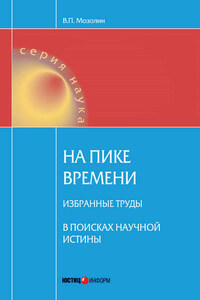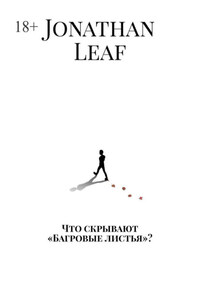Упорядочивание иерархии хаоса
Фактически я рос под присмотром государства. первые воспоминания относятся к детским яслям где-то в Подмосковье, потом детский сад – пятидневка в Вишняках, потом школа зимой и пионерский лагерь летом. Пионерских лагерей было три – «Гжель» от железнодорожников, ехали на электричке от Казанского вокзала, собирались в ЦДКЖ, в каждом вагоне по одному отряду и после прибытия 3 (три километра пешком по лесу). «Авроровец» от Министерства лесной промышленности СССР, понятно по названию шефами были моряки с «Авроры», пионеры разучивали сигналы флажками, азбуку Морзе, палаты были кубриками, ехали по Минскому шоссе на автобусах колонной, лагерь стоял на высоком берегу Рузы, напротив санатория Дорохово. «Восход» был от одноименной фабрики, на месте стоянки войска Кутузова после сдачи Москвы под Малоярославцем.
Невозможно познать что такое «свобода» без точного знания что такое «порядок». Вы знаете что такое «пересменок»? Это два-три дня от одной смены до другой, пустой лагерь, как в фантастических романах, где в живых остался один герой, у которого вдруг закончились все «порядки», от горнов – сигналов к подъему, еде, отбою, до линеек на сжигающем солнце, обязательного сна в «тихий час», выездов на прополку какой-то брюквы в колхозные поля…
«Тихий час» и время после отбоя это уже краденая свобода, в «Гжеле» бегали к фабрике фарфора, на отвалы бракованной продукции и собирали более менее целые фигурки животных, бег занимал ровно час, именно бег, иначе не успеешь. В «Авроровце» уходили в лес под ЛЭП и собирали малину, или в лагерном смородиннике лежали под кустами со спелой смородиной, собирали грибы, чтобы ночью, в лесу жарить их на палочках.
Фотокружок добавлял свободы в порядок. Можно было ходить с фотоаппаратом во время любых мероприятий и делать вид, что фотографируешь, руководитель фотокружка, пожилой еврей, был самым свободным человеком в «Авроровце» (но не от своей камеры «Лейка» 6х9, висевшей, вернее лежавшей на животе, и не от своих страстей фотографировать все прекрасное, в основном молодых женщин)…
Высочайшая свобода – это строгая внутренняя упорядоченность.
В Североморске, где в в/ч было 75% личного состава, кому заменили отбытие срока на службу в Вооруженных Силах, (в военно-строительном отряде гидротехнического управления Северовоенморстроя Северного Флота) строгие правила службы и не менее строгие правила отношений вырабатывали такую внутреннюю свободу, что ее невозможно было удержать ничем. Тем более что правила постоянно нарушались в связи с целесообразностью, необходимостью, да и просто потому, что никогда не исполнялись. Поскольку были бессмысленны (с точки зрения солдат и матросов).
Но формально, в отчетах, все правила были соблюдены.
Тем не менее ночами игрался преферанс, спирт «испарялся» из залитых сургучом емкостей, солдаты приходили с «вахты» в губной помаде и с апельсинами, а иногда и пропадали по нескольку ночей. Город то военно-морской, база Северного Флота…
Организованная такой жизнью внутренняя свобода не позволяла в дальнейшем участвовать в формальных мероприятиях вроде партсобраний, вообще собраний, празднования каких-то дней, но позволяла позже, на «гражданке», создавать (по поручению замов по воспитательной работе) шедевры презентаций о проведенной работе (планшеты на стойках 1х1 метр, с фотографиями, данными и текстом, «поверпойнт» в натуре, стенные газеты и стенды «Наше предприятие»), а также раскрашивать фасады предприятий необходимыми ритуальными лозунгами, обозначавшими период в построении коммунистического общества. «Каждый день – ударный!»