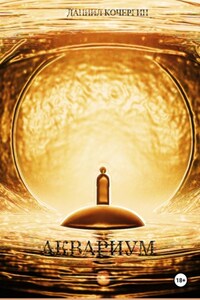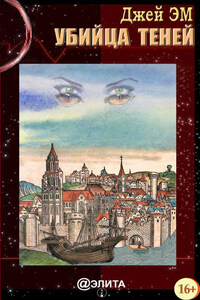С возрастом память человека слабеет. Забываются недавние события, знакомства, чьи-то слова.
Но есть у памяти особое свойство: сохранять прошлое. И ты погружаешься в далёкое время, вспоминаешь лица, речь, забытые события вдруг оказываются такими яркими. А если ты ещё и пишешь, хочется доверить читателю свои воспоминания.
Моей мамы нет уже пятнадцать лет (её не стало на девяносто четвёртом году жизни).
Память у неё была отличная. Она помнила родителей, их тяжёлую жизнь.
Сестра её Фаина жила рядом; собираясь вместе, они всегда говорили: «А помнишь?..»
Чаще вспоминали отца Африкана. И с детства я знала: мой дедушка был очень добрым, сильным и смелым, любил реку Кубену, трудился сплавщиком. Мама поправляла: «Плотогоном. Лучшим плотогоном. Сплавляли лес от истоков Кубены до устья, что в Усть-Кубинском районе, до Высоковской Запани. Вначале молевой сплав, сами рубили лес, соединяли в плоты. Он знал много секретов, как сплотить лес, как сохранить всё до брёвнышка, не упустить в Кубенское озеро».
Сёстры вспоминали, как трудно жили: земли не было, семья большая, двое детей от первого брака, шестеро – от второго. Все они были очень дружны, помогали друг другу.
Старший брат увозил мою маму в Москву, устраивал на работу. Старшая сестра Катя забирала меня в голодный год, спасала от болезни. Когда маму назначили лечить лошадь на районной ветеринарной станции, Катя была рядом, варила лекарство, помогала обрабатывать высокого коня. По осени брала отпуск (работала в воинской части), ходила на болото и обеспечивала сестёр клюквой. В ту пору в колхозе не разрешали во время уборки урожая уходить за ягодами, да и обуви не было.
В детстве маму отдавали в няньки. «Такой битюк[1]был мальчишка, пересадить через тын не могла. Так и играла с ним рядом с домом, на песке. Отводок[2] хозяйка запирала, боялась воров. Молоко, которое оставляла, измеряла лучинкой, потом кричала, что ребёнок не мог столько выпить, била меня. Приплыл отец, узнал всё это и больше меня в няньки не отпускали».
На стене в нашем доме висела рамочка, под стеклом – фотографии дорогих родственников. А вот карточки Африкана не было.
Леонид был такой же, как отец, и лицом, и характером, и даже ростом. Отец несправедливости не любил, смотрел строго, два раза не повторял. Мамку очень жалел…
И вот я в ГАВО (Государственный архив Вологодской области).
– Всё не найдёте. Видимо, спешили забрать документы из Кадниковского монастыря, что-то утрачено, – предупредила сотрудница архива. – Но если что-то знаете от родственников, это уже хорошо.
А знала я многое. И то, что Африкан был подпаском, работал у зажиточных крестьян, и что голодал и всё пытался разобраться, за что ему выпала такая участь.
Меня вдохновляло, что его знали старые люди в деревне Попчихе, в Усть-Реке, Сямже, знали как хорошего человека, трудолюбивого и честного.
Когда приходили школьники, просили, чтобы мама рассказала о прежней жизни, она пела колыбельную:
Вечер был. Сверкали звёзды.
На дворе мороз трещал.
Шёл по улице малютка,
Посинел и весь дрожал.
«Боже! – говорил малютка. —
Я прозяб и есть хочу.
Кто ж согреет и накормит,
Боже добрый, сироту?»
Шла дорогой той старушка,
Услыхала сироту,
Приютила и согрела,
И поесть дала ему.
Положила спать в постельку.
«Как тепло!» – промолвил он.
Закрыл глазки, улыбнулся
И заснул… спокойным сном.
Бог и птичку в поле кормит,
И кропит росой цветок,
Бесприютного сиротку
Мне мама колыбельных песен не пела. Её посылали на сплав, лесозаготовки, на дальние покосы, а потом она была телятницей, уходила на скотный двор рано, приходила поздно. «У тебя есть старуха, ты вольная птица», – говорил бригадир маме и давал наряды то туда, то сюда.