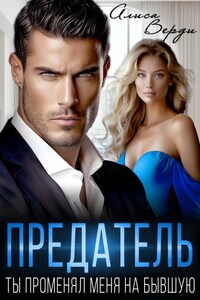Жизнь – сложная штука, и это каждый
знает. Когда всё идёт хорошо – не зевай, в любой момент судьба
из-за угла нанесёт удар, и чем меньше ты его ожидаешь, тем крепче
тебе достанется. Оглянуться не успеешь, как из благополучного и
счастливого человека превратишься в контуженного, потерянного
неудачника, который всё понять не может, что вообще произошло и –
главное – почему!? И опыт говорит, что в безнадёге, вязкой и
глубокой, как болото, вязнешь именно как в болоте. Из неё очень
трудно выбраться. Почти невозможно. Лишь у единиц получается точно
так же, как и с попаданием в яму: бац! – и удача шлёпает по
темечку. Это такое исключение из правил, что о нём и говорить-то
стыдно, не то что рассчитывать. Обычно благополучие строится по
кирпичику, по крупинке – а теряется в один миг.
И вот, можно подумать, что отчаяние
– единственный подарок, который жизнь способна подкинуть человеку.
А на вопрос «Ну почему? За что?» ответит одна религия, только мало
кого её ответ полностью удовлетворит.
Увы, до момента, пока не грянет, и
прежняя-то жизнь кажется человеку далёкой от совершенства. Как
водится: и то не так, и это не эдак, всегда есть к чему придраться
и о чём помечтать, горестно скруглив бровки. Потом дожидаешься,
когда привычное станет прошлым, вляпываешься в худший расклад и вот
тут-то запоздало оцениваешь, насколько тебе было хорошо. Научиться
бы ещё запоздало наслаждаться утерянным, но это сродни полному
бескорыстию, встречается реже, чем крупинки золота в почве.
На самом-то деле Севель прежде не
считала, что несчастна. Да, ей не особо повезло в самом начале
жизни. Вот, к примеру: мать была вынуждена оставить её в приюте.
Севель, собственно, матери и не знала. Приют – что в этом слове
вообще способно ободрить? Тягота, уныние и страх. Туда отдавали
девочек, которых матери не способны были прокормить, и то, как
девочки там воспитывались и как жили, зависело только от персонала.
Кто стал бы особенно заботиться о брошенных девочках? Их и так с
каждым столетием рождалось всё больше. В позапрошлом веке,
говорили, приходилось примерно восемь девочек на одного мальчика, а
сейчас – уже больше десяти.
Но Севель оказалась в приюте,
которым заведовал очень хороший человек – да что там, самый лучший
и добрый, которого Севель когда-либо знала. Он был искренне увлечён
своей работой, следил, чтоб воспитательницы заботились о подопечных
как следует, в меру их наказывали, и старался пристраивать
выпускниц на производства, чтоб не пропали на улице. Если, конечно,
удавалось. Директор частенько спускался в общую спальню девочек
постарше и утешал их, объясняя, что женщины не бесполезны миру,
всё-таки именно они производят на свет будущих мужчин, а кроме
того, трудятся на заводах и фабриках, в мастерских и магазинах, в
больницах и приютах и тем самым каждая вносит свою лепту. После
беседы с ним светлело на душе – Севель сохранила о директоре самые
добрые воспоминания.
Иногда она думала: он так добр
потому, что у него-то самого есть сын – от одной из бывших
воспитанниц. И тут же добавляла про себя: это правильно. Он
заслуживает счастья. У каждого хорошего мужчины должен быть сын, а
лучше двое.
После приюта она с помощью директора
сумела попасть на фабрику, где производился бытовой пластик, но
долго там не выдержала. Там требовались работницы покрепче. У
хрупкой Севель не хватало сил ворочать огромные тюки материала и по
четырнадцать часов стоять у конвейера. Потом была свиноводческая
ферма, где удалось проработать только сезон – вернулась основная
работница. А потом наконец повезло, и Севель взяли в мастерскую по
производству жалюзи. При мастерской даже было небольшое общежитие,
за которое брали очень умеренно. Жили по шесть девушек в комнате, и
с некоторым комфортом – кухонька и душ на этаже, два туалета. Жили
дружно, иногда прикрывали товарок от бдительных комендантш,
особенно если речь шла о свидании, тем более с мужчиной.