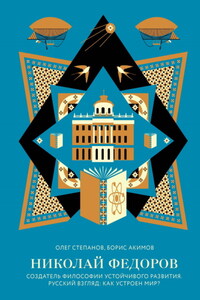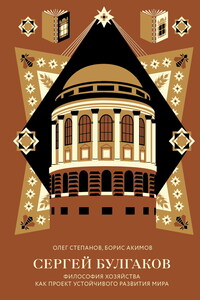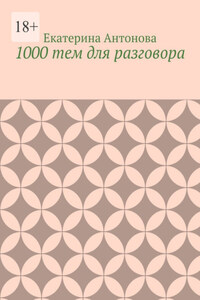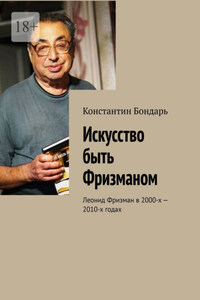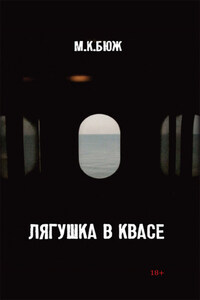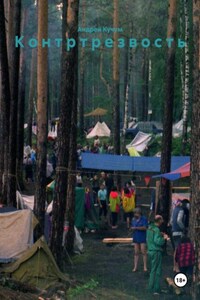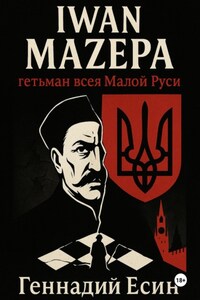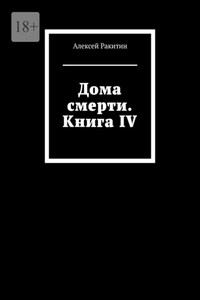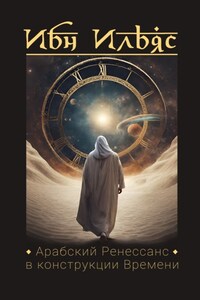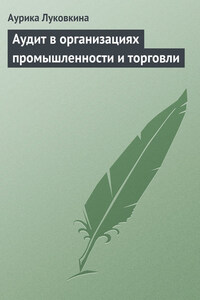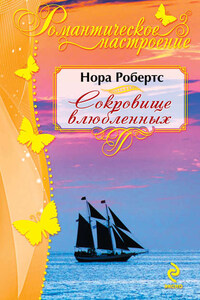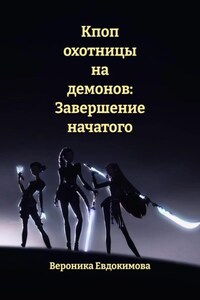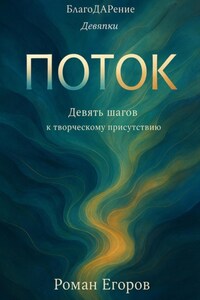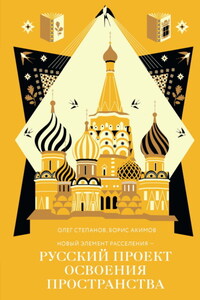
Новый элемент расселения – русский проект освоения пространства
Олег В. Степанов / Борис А. Акимов
Еще у Аристотеля пространство состояло из «мест», имеющих определенные свойства, а каждая вещь стремилась занять своё «место» в пространстве, тогда вещь становится красива, а между вещами возникает гармония, а значит красота. Уничтожая свойства пространства, мы получаем мёртвую среду, которая не может быть красива и органична. Это фундаментальная проблема. Талантливые архитекторы 20 и 21 века чувствовали эту проблему, писали о ней и пытались ее решить. Авторы книги «Новый элемент расселения – русский проект освоения пространства» вместе с учеными-единомышленниками попытались взглянуть на проблему «города-деревни» по-новому.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
| Жанр: | Публицистика |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | 2025 |