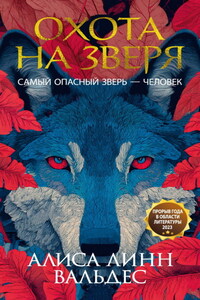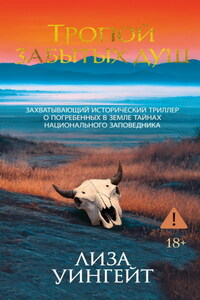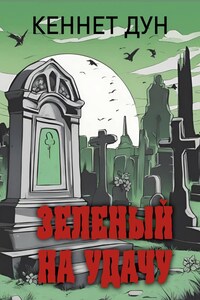У Наталии не было ни бумаги, ни ручки. И карандаша не было тоже. Вообще ничего. Только собственное хриплое дыхание, только астма. Только дыра в земле, где держали ее эти люди. Ее и еще двух девушек. Одна из них, Паола, рослая, с высокими скулами, все твердила, что ее отец придет и спасет их всех. Вторая, Селия, маленькая и кругленькая, говорила с акцентом. Она обняла Наталию и заверила, что все будет хорошо. А еще пообещала запомнить письмо, которое Наталия сочиняла здесь, в их странной тюрьме, где не было бумаги, ручек и карандашей. Между приступами задыхающегося кашля Наталия составляла послание родителям, снова и снова пересказывая его себе – и Паоле с Селией, которым волей-неволей приходилось слушать, – а потому запомнила целиком, до последнего словечка. Не то чтобы очередные версии ее послания совсем не отличались друг от друга, но разницей можно было пренебречь. Сидя во тьме на холодном влажном земляном полу глубокой ямы, провонявшей их выделениями (девушки отвели под них определенное место, но это не помешало зловонию распространиться повсюду), Наталия обнимала прижатые к груди колени. На ней по-прежнему был лишь скромный сплошной купальник мандаринового цвета и белая накидка. То есть когда‑то белая. Теперь ее покрывали грязь, пыль, кровь, пот, слезы и прочие присущие животным субстанции. Наталия покачивалась туда-сюда. Откуда‑то издалека, сверху, до нее донеслось ритмичное постукивание. Дятел долбит, сказала Селия. Сосредоточьтесь на этом звуке, на птице, подумайте, как она свободна. Мы тоже снова будем свободны. Тук-тук-тук.
Они находились посреди леса, вдали от цивилизации. Вдали от помощи. Вдали от дома. Наталия все покачивалась и покачивалась, стараясь не закричать. Именно так всякие психи ведут себя в фильмах про сумасшедших, подумалось ей. Вот, значит, почему такое происходит: просто чувства, которые их захлестывают, настолько сильны и ужасны, что приходится двигаться, лишь бы не дать им поглотить себя, не утонуть в них. Наталия цедила слова сквозь сжатые зубы, устремив взгляд в никуда, в земляные стены темницы. Тут нечего было видеть, кроме этой ямы, как будто всех трех девушек уже положили в гробы и похоронили. Ей вспомнилось выражение «краше в гроб кладут». Вроде бы забавное, правда же? Шутка такая. Только вот если тебя действительно опустят в землю, становится не до смеха. Ничего веселого в этом нет. Совсем-совсем ничего. Наталия не знала, сможет ли когда‑нибудь смеяться снова. Две другие девушки просто смотрели и слушали. Она умоляла соседок по заточению запомнить слова письма и повторить их ее родителям, если самой Наталии не удастся этого сделать.
– Передайте, что я прошу прощения. И что я их люблю.
– Не говори так, – попросила Селия. – Сама все им скажешь.
– Да, – поддержала Паола. – Нельзя терять надежду. Я же говорю, мой отец уже близко.
– Дорогие мама и папа, – проговорила Наталия, не обращая внимания на них обеих. Она пыталась справляться с ситуацией, как могла. – Извините, что я вас разочаровала. Я не хотела.
– Только не начинай! – Паола со стоном стукнулась затылком о земляную стенку.
– Не надо! – С этими словами Селия сунула ладонь между головой подруги по несчастью и стеной.
– Дорогие мама и папа, извините, что я вас разочаровала. Я не хотела. Я купалась с Кристофером в том бассейне, который с горками. Знаю, вы и велели мне за ним приглядывать, но мне срочно понадобилось в туалет, а вы как раз опять спорили, были ужасно сердитые на вид и пили коктейли с зонтиками, поэтому мне не хотелось вас беспокоить. К тому же Крису ведь уже двенадцать, а не три года, он хорошо плавает, чуть ли не лучше меня, и вообще он был в мелкой части бассейна, а вокруг – целая куча спасателей. А мне просто по-маленькому надо было, и я подумала, что сразу вернусь. Ну и побежала в уборную: не в бассейн же писать, это никому не понравится. Такое только младенцам простительно, но я‑то не младенец.