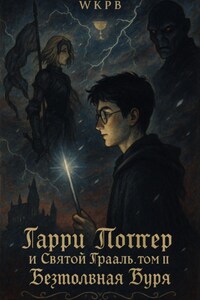Историческая повесть
«Она одета в силу и достоинство;
она может смеяться в грядущие дни».
Притчи 31:25
Темная ночь, посланница великой богини Нотт2[1], могучим вороном опустилась на фламандский город Гент. Одна за другой гаснут свечи в тусклых окнах каменных островерхих домов бельгийцев. Тишина… Лишь изредка с набережной доносится гулкий стук старых рыбацких лодок, со скрежетом трущихся боками о каменный речной причал древнего города. Этим ночным звукам вторит всплеск волн извилистой и полноводной реки Лейе3[2]. Город медленно погружается в долгожданный и безмятежный сон…
– Оливия, где ты? Как долго прикажешь тебя ждать?! Совсем нет мочи! Ноги окоченели, как дохлые рыбины в зимнюю стужу… – гневно позвал изможденный старик, скрючившийся под толстым одеялом и бараньей шкурой на двуспальной деревянной кровати.
Комната, которую он занимал, была аскетичной и старомодной. Единственное окно, наглухо закрытое плотной бархатной портьерой темно-зеленого цвета, через приоткрытую форточку пропускало вовнутрь свежий воздух и приглушенные звуки, доносившиеся с улицы. К стене с гипсовым распятием Иисуса Христа была плотно придвинута добротно сделанная кровать с почерневшими от времени массивными резными спинками. Рядом величественно возвышался одинокий секретер с откинутым столиком и единственным стулом, на котором явно давно никто не сидел. А напротив – большим темным пятном из полумрака выделялись комод с ящиками для полотенец, нательного и постельного белья и старинный дубовый книжный шкаф, исполненный по индивидуальному заказу хозяина, как и прочая мебель в доме, созданная много десятилетий назад искусным мастером-краснодеревщиком. Все, включая многочисленные склянки с лекарствами, аккуратно расставленными на комоде, и даже потёртый бельгийский ковер, по которому больной уже давно не ходил, шаркая тапочками, как в былые времена, невольно наводило на мысли о неумолимом приближении конца и страданиях пожилого мужчины!
– Вот я, батюшка! Подтяните-ка на себя одеяло! – с трудом и осторожностью опуская на постель разогретый в кухонном очаге камень овальной формы, бойко ответила рыжеволосая красавица, похожая на ангела, сошедшего с полотна Питера Брейгеля Старшего4[1], настолько она была хороша и приятна.
Едва прикрывающий пышные кудри чепчик с загнутыми вверх концами не мог скрыть богатство и красоту волос Оливии. Взгляд её больших, чуть раскосых серых глаз, обрамленных пушистыми темными ресницами, был по-детски доверчивым и наивным. А добрый нрав еще больше усиливал внешнее очарование милой девушки. Однако сама юная прелестница не придавала своей привлекательности особого значения. Была в её красивом лице какая-то глубокая, невысказанная грусть. Оставаясь наедине с собой, она мечтала, хотя бы на пару мгновений, обнять покойную свою матушку, как бывало в детстве, уткнуться лицом в передник, ароматно пахнущий лавандой и мятой…
Бережно и привычно придвинув одну за другой отцовские худые ноги в полосатых шерстяных гольфах к горячему камню, девушка тут же ловко накрыла их одеялом и овечьей шкурой, поставив к изножью кровати большие железные щипцы-прихваты, заботливо подоткнула одеяло и ласково улыбнулась любимому родителю, обозначив ямочки на нежно румяных щеках.
– Не переусердствовала ли нынче? А то, как бы чего плохого не вышло! Долго ли грела? – привычно строго спросил старик, шамкая беззубым ртом и неконтролируемо нервно подергивая головой в ночном колпаке, из-под которого выглядывали длинные седые пряди редких волос. Несмотря на затяжную болезнь, он всё ещё привычно проявлял свой властный характер. «Хозяин, он и в немочи – хозяин», – уверенно говорил сам себе старый Нолан Петерс, цепляясь за жизнь. – Все должно быть под присмотром и контролем».