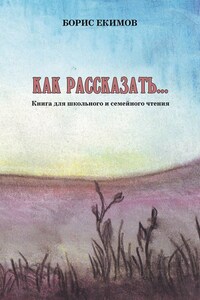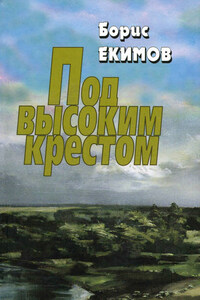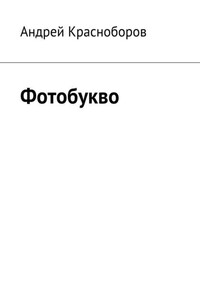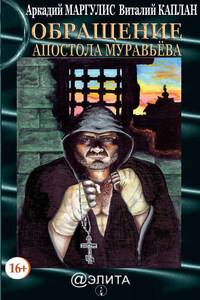Мириться с подлостью нельзя, но мир души, почерпаемый из Бога, сам умудрит человека, как воевать ему с мерзостью, прощая людей и не оскорбляя их. Только тишина отражает небо.
Иван Аксаков
В русской литературе есть такое испытанное понятие – «классик». Им сейчас разбрасываются направо и налево. Зайдешь в книжный магазин и оказываешься в окружении классиков: «классик современного детектива», «лучший роман классика постмодернизма», «знаменитое произведение классика любовного романа», «успешный роман современного классика»…
А вот Пушкина при жизни никто ни разу не назвал классиком. И Достоевского, и Чехова. И не потому, что критики были тогда злые и несправедливые. Просто люди были бережнее со словами и не торопились делать из человека памятник. Они понимали, что судьба писателя решается не только его современниками.
Как не всякий пожилой монах, к которому стекаются верующие и которого называют «старцем», становится подлинным старцем, так и не всякий увенчанный премиями модный писатель станет классиком.
Одна из таинственных закономерностей русской литературы состоит в том, что чаще всего в сонм классиков у нас входят те, у кого при жизни не было ни «раскрученности», ни «успешности», ни высоких рейтингов продаж (вспомним Афанасия Фета с его нераспроданными «Вечерними огнями»).
Все это имеет прямое отношение к судьбе Бориса Екимова, который вот уже почти полвека уединенно, тихо и сосредоточенно работает в Калаче-на-Дону.
Он пришел в русскую литературу в начале 1970-х годов и не из теплицы Литинститута. Позади было детство в Игарке, безотцовщина, армия, завод… Жизнь не была к нему ласкова. Но взялся он за перо не для того, чтобы живописать зло, и не для того, чтобы закрыться от него в придуманном мире. Он взялся рассказать о жизни так, чтобы люди почувствовали, увидели: и здесь, в этой тягости земного бытия, есть свет. И этот свет рядом.
Однажды в беседе со мной он сказал: «Всякая эпоха бывает тяжела, но жизнь не может остановиться на нашей очередной беде. Жизнь есть свет!»
В Москве многие впервые услышали о Екимове только в середине 1990-х, когда в «Новом мире» были опубликованы его повесть «Пиночет» и рассказ «Фетисыч». Пиночетом односельчане прозвали председателя колхоза, попытавшегося на краю пропасти удержать свое хозяйство. А Фетисычем за рассудительность и раннюю самостоятельность звали на хуторе девятилетнего Яшу. История о том, как умерла единственная на всю малокомплектную школу старушка-учительница и мальчонка отправился искать ей замену, – эта история пронзила тогда всех, кто ее прочитал.
Да, проза Екимова милосердна, но в ней нет ни следа поверхностного благочестия. Ничего елейного, сладкозвучного, ласкающего слух. Здесь жестокие столкновения, суровые обстоятельства, вся обыденность русской глубинки, бьющая наотмашь одних и тянущая на дно уныния других. Но здесь и ночная тишина, и звездное небо над степью, и прохлада после дневного жара, и те сотни и тысячи степных звуков и запахов, о которых, кажется, уже никто, кроме Екимова, не напишет.
Он выводит читателя к свету, по-отцовски крепко взяв его за руку. Не оплакивает своих героев, твердо веря в силу их духа, и эта вера незаметно, без публицистического нытья, передается нам: «Не надо плакать… Будем жить!»
Церковь у Екимова – это не место слез и жалоб, а маяк для моряков, попавших в жестокую бурю. Герои Екимова могли бы сказать вслед за Иваном Аксаковым, писавшим своей невесте: «Бог есть не только утешение, но сила на подвиг, труд, деятельность, на жизнь…»
Екимов предельно сдержан во всем, что связано с Церковью. На его страницах не мелькают священники, монахи, семинаристы, паломники… Рецептов духовной жизни здесь никто не выписывает. Никогда и нигде имя Христово не звучит у писателя всуе, а лишь очень редко в устах детей и стариков.