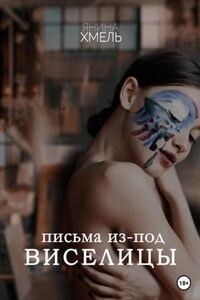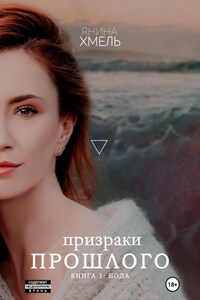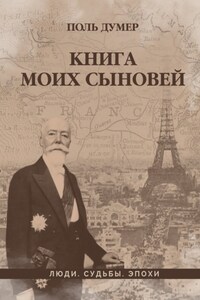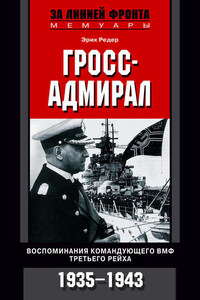Ранней осенью в северной Ирландии темнеет быстрее, чем весной и летом, но ночи всё ещё остаются тёплыми, будто весь день кто-то собирает тепло, чтобы укутывать после захода солнца путников, как одеялом.
Я поправил сползающую лямку рюкзака и ускорился, пробираясь к железнодорожной станции в наползающей темноте. Сердце отдавалось частыми ударами с каждым шагом, но не от набранной скорости – какое-то неприятное предчувствие не проходило весь день, а к вечеру только усилилось.
Не успел я отойти от дома и пару шагов, как услышал голос матери:
– Сынок! – Она в лёгком платье выпорхнула из дома и подбежала ко мне, протягивая ещё дымящиеся пирожки на выстиранном голубом платочке. – Твои любимые!
– Вечером попробую, ма, – поцеловал её руку.
– Самые румяные тебе выбрала, – умоляюще посмотрела мне в глаза она.
Я сдался под этим любящим взглядом и положил тёплые пирожки в рюкзак, быстро закинул его на плечо и улыбнулся:
– Опаздываю на поезд.
– До вечера! – крикнула мама мне вслед.
Когда я подходил к железнодорожной станции, это утреннее воспоминание всплыло в мыслях. Конечно же, я забыл о пирожках.
Вскочил на перрон и удивлённо посмотрел по сторонам: вокруг было пусто и тихо, что необычно для вечернего рейса из города. Я присел на скамью, откинувшись на спинку, и прикрыл глаза. Немного закемарил, а проснулся оттого, что кто-то рядом чиркнул спичкой.
Поднял веки и увидел Томаса, дежурного станции, он прикуривал сигарету. Зажал между зубами скрученную папироску, поднося к краю спичку, на которой пылал огонёк.
– А ты чего здесь, Дэв? – промычал Томас, стряхивая спичку и выдувая дым.
– Поезд жду.
– Так ушёл же, – он снова затянулся.
– Как ушёл?
– Минут пятнадцать назад, – пожал плечами Томас, выпуская ещё одно колечко дыма.
– А следующий?
– Утром.
Я вздохнул. Понятно теперь, почему вокруг так тихо и пусто.
– Хочешь пирожок? – Я посмотрел на Томаса.
– Спасибо, я уже ужинал, – тот докурил и выбросил окурок. Потянулся ещё за одной: – Будешь?
– Не курю.
Томас сделал ещё несколько затяжек, отстрельнул незатушенную сигарету в урну и вернулся в свою каморку.
Я достал из рюкзака холодные пирожки, съел все и мысленно поблагодарил мать, которая настояла на том, чтобы я взял их.
Стемнело быстро. Глаза закрывались, и я решил поспать до утреннего поезда. Дремал, но не проваливался в глубокий сон, был на грани между сновидениями и явью. Как будто рядом что-то горело. Яркие вспышки огня проскальзывали даже через опущенные веки. Проснулся я от запаха гари.
– Что-то горит? – произнёс спросонья.
– Не, это я курю, – ответил Томас. – Может, поспишь в моей каморке? Там, конечно, не священное ложе, но удобнее, чем на этом дереве, – затянулся и указал кивком на скамью.
– Скоро уже рассвет, – я снял рюкзак с плеча и положил рядом, – ещё утренний поезд просплю.
– Я тебя разбужу, – усмехнулся дежурный.
– Спасибо за предложение, но я останусь здесь.
– Ну как хочешь! – Томас скрылся в своей каморке.
Я снова закрыл глаза.
Снится мне открытое окно. Рама с облупившейся побледневшей голубой краской. Застиранная, пожелтевшая со временем занавеска, что колыхается на слабом ветру. На подоконнике стоит свеча на белом блюдце с голубой каёмкой. Чья-то рука подносит к фитилю свечи́ зажжённую спичку. Вспыхивает огонёк.
– Ложись, голубушка, – слышен низкий мужской голос.
– Может, что случилось? – отвечает ему взволнованный женский.
– Скорее всего на поезд опоздал.
– Скорее всего, – эхом отдаётся женский.
Кто-то подул на свечу. Огонёк погас.
Ветер усилился. Занавеска выскочила в открытое окно, а потом вернулась в дом, скинув с подоконника блюдечко.
Проснулся я тяжело дыша. Потому что знал это окно, эту раму с облупившейся голубой краской, эту застиранную занавеску и это блюдечко со свечой на подоконнике. И эти два голоса были мне знакомы. И руку с поднесённой спичкой я целовал минувшим утром.