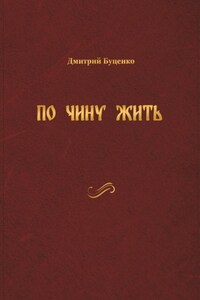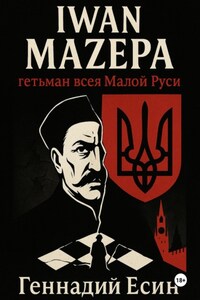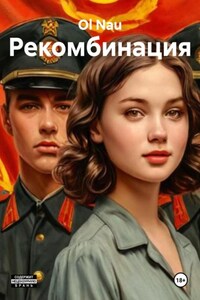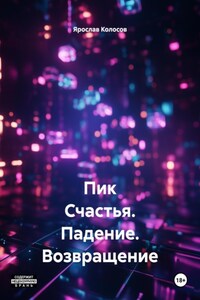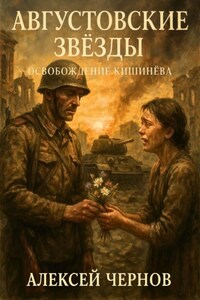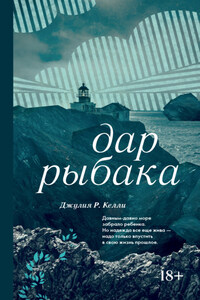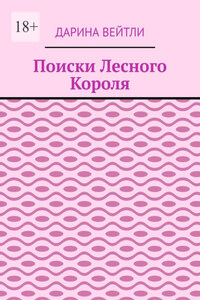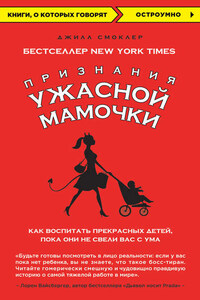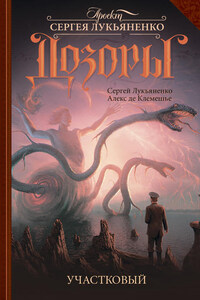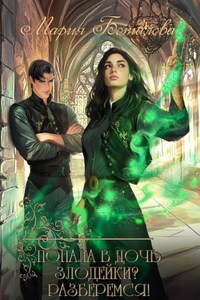1
Каждое утро, ещё не старый, Андрей Леонтьевич Шубин просыпался до рассвета от собственного сердечного стука. Не надеясь заснуть, вставал, одевался и выходил побродить по безлюдным тёмным улочкам острога. Пройдя от воеводского дома к храму, затем к воротам, он поднимался на стену и направлялся на раскат угловой башни, выходящей на реку. Повелительным жестом отсылал с той башни караульного и, повернувшись к запертой льдом реке, то тревожно вглядывался в окружающие острог белые окоёмы, то внимательно рассматривал ещё крепко спящую вверенную ему государем крепость. Со своего поста ему хорошо видно, как бродят по стенам сонные и продрогшие стрельцы; как загораются лениво в посадских избах маленькие окошки; как кузнец разжигает в горне дрова – свет от пламени вырывается через открытые ворота на снег у кузни и пляшет по нему озорными бликами.
Всего несколько месяцев как он назначен воеводой в Алексеевский острог, но уже видел прилежащие земли собственным наделом – местом для стяжания достатка. К несчастью приходилось мириться с тем, что вся его власть была лишь отражением могущества русского царя на этом отдалённом участке Сибири.
Больше сорока лет, с похода донского атамана Ермолая Тимофеевича, Россия упорно вгрызалась в Сибирские просторы. Перевернувшая всю страну, Смута несколько замедлила движение, но с восшествием на престол новой династии и установлением порядка, освоение этих безграничных земель продолжилось. Москва остро нуждалась в средствах, и Сибирь виделась неиссякаемым их источником.
Всё посылались и посылались отряды для «приискания новых землиц». Для контроля и обеспечения изнурительных походов строились деревянные крепости – остроги. И чем дальше заходили отряды, тем больше появлялось и острогов. На какое-то время они становились остриём копья направленного вглубь далёких и опасных земель, но всегда ненадолго – отряды всё шли и шли, остроги всё строились и строились. Одним из них суждено было стать городами, а другие, сгнившие или сгоревшие, забывались.
Алексеевскому острогу было лет семь. Когда-то в этих местах устроил себе спасительную пустынь старец Макарий. К нему подселилось ещё несколько таких же, ищущих успокоения, неприкаянных душ. Недалеко от них, подыскав место повыше, промышлявшие соболем охотники, поставили первую зимовку… И вот уже вместо неё, на левом берегу Енисея, в десяти вёрстах выше устья реки Кемь, недалеко от другой речки – Мельничная, возвышается целый острог. Поначалу его сложили наспех – страшились нападения тунгусов; пяток домишек и стена, всё из непросушенного леса – он быстро гнил, потому пришлось перестраивать. Взялся за это воевода Яков Хрипаков, которого после и сменил Андрей Леонтьевич.
Теперь это солидная крепость с постоянным гарнизоном около ста пятидесяти стрельцов с пищалями и даже шестью пушками. Прямоугольное строение, двести саженей в длину и семьдесят в ширину. Стены, устроенные из двух рядов брёвен между которыми засыпана вынутая из окружавшего острог рва земля, имели три сажени в высоту и полторы в ширину. Две угловые башни с раскатами – площадками для стрельбы на их вершинах. В каждой из длинных сторон также встроены башни с воротами и тоже с раскатами.
Острог стал защитой для местных пашенных крестьян и мастеровых, рыбаков и охотников, промысловиков и торговых людей. Стал местом отдыха от походов и подготовки новых. Стал то́ржищем и таможней. Для всего окрестного люда он оказался всем, чем была тогда Россия в этих диких местах.
Вот бы ещё колокольный звон на всю округу, чтоб на службу звал и возвещал – новая сила закрепилась основательно, а значит пришла сюда надолго!
Высокими бревенчатыми стенами острог врастал в землю остяков – так стали называть немногочисленное местное население пришедшие сюда русские промышленные люди, не делая разницы между остяками обскими, нарымскими и енисейскими. Сами же остяки иногда называли себя кетами или югами, но чаще наматами, алчынами, хонегитами, хетянами, замшатами и другими именами своих родовых князцов. Охота да рыбалка – вот чем жили местные остяки. Ещё железо делали – хоть и плохонькое, оно было в цене и, как большая редкость, для обмена годилось. Понятное дело и пушнину добывали, но в большей части для себя. Правда если выпадала возможность поменяться – не отказывались.