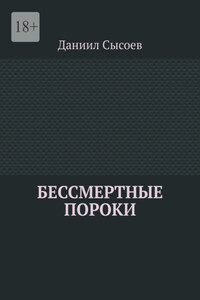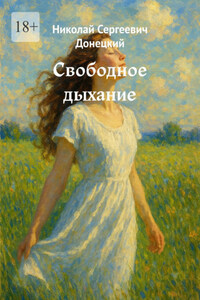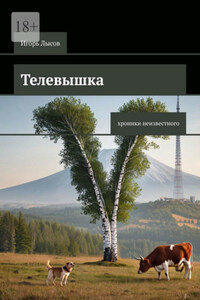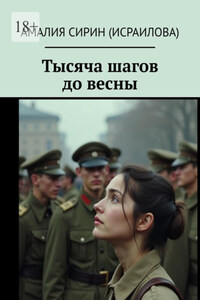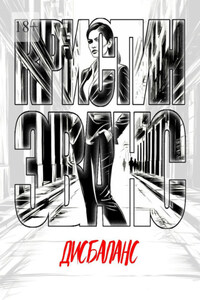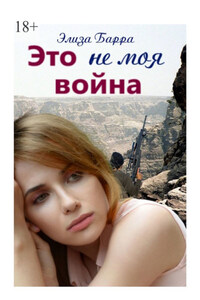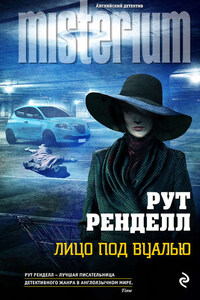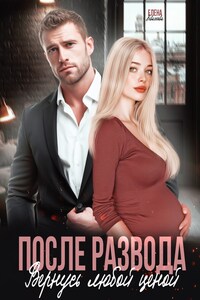Глава без названия
«В черном-черном лесу стоит черный-черный дом…» – кого из нас не пугали этой короткой сказочкой-страшилкой в детстве в такой темной, занавешенной на ночь тяжелыми портьерами спальне, что ты перестаешь узнавать очертания шкафов и полок с книгами и игрушками, не видишь собственную руку, поднесенную прямо к лицу, а ощущаешь только липкую Тьму, окружившую тебя, и сворачиваешься под одеялом как можно туже, стремишься стать меньше, чтобы Тьма не увидела тебя, проскользнула мимо, и все хватаешь и хватаешь за руку брата, пришедшего пожелать спокойной ночи и решившего немного попугать тебя, или ночью у костра, когда огонь освещает лишь небольшой зыбкий круг, позади которого пляшут темные тени и Тьма сторожит тебя, ты вздрагиваешь, прижимаешься к отцу, а он выговаривает сыну за то, что тот опять напугал маленькую девочку своими неуместными сказками. Но наступает утро, и Тьма отступает, уползает в глубокую нору, и ты радуешься этой метаморфозе, думаешь, что вечером, перед сном, заманишь к себе в комнату собаку Асту, с которой вообще ничего не страшно, или скажешь маме, чтобы не задергивала портьер, и тогда таинственная, плывущая по небу в шлейфе из звезд Луна будет заглядывать всю ночь голубым глазом в твою комнату и отпугивать Тьму. И только, взрослея, начинаешь понимать, что никуда Тьма не отступает, нет у нее глубокой, темной норы, и она не прячется, а продолжает жить в людях, свивая в их сердцах темные гнезда, а большое гнездо или крошечное, это уж от самого человека зависит, насколько он готов и силен, чтобы не допустить до себя Тьму, чтобы страшных рассказов у костра ли, в новостях или в повседневных разговорах стало хотя бы немного меньше.
Меньше, однако, не становится, и, возможно, это тоже средство борьбы с Тьмой, – отразить Тьму в зеркале рассказа о ней, пусть бы она увидела себя и ужаснулась на свое уродство, съежилась до приемлемых размеров, байки у костра, например, или сказочки-страшилки, способной напугать только ребенка, а взрослый человек сразу сказал бы, что это чистый вымысел.
Конечно, я утверждаю, что книга эта – вымысел, что любое совпадение имен или событий – просто случайность, но разве могу утверждать я, что все, рассказанное в ней, – неправда? Это было бы против истины…
Глава первая. Песочница
Старик Дроняев (да какой же он старик? пятьдесят пять лет всего-то, высокий, широкий в плечах, глаза синие, каким бывает небо в ясный летний день, нос тонкий, серебряные нити седины едва только тронули белокурые виски на красивой голове) сидел у окна в высоком кожаном кресле, в том, что ставят в их тайной молельной комнате, когда члены общины собираются на молитву (на тайную молитву! на тайную! советская власть ополчилась на пятидесятников давно уже: признала изуверской сектой! а в чем их изуверство-то?), и смотрел почти неотрывно в окно: там, в песочнице, им самим построенной, играли двое его внуков, гордость его и радость, единственно оставшаяся после всех этих прожитых лет, дети старшего сына Александра: внучка Анечка семи лет и внук Иван, только три годика исполнилось, названного в честь его, Ивана Сергеевича Дроняева, главы общины пятидесятников, советской властью запрещенной. А Анечку назвали в честь бабушки, той бабушки, не Ивана жены, а матери его снохи Ирины, тайной его – в молодости (и на всю жизнь!) – любви, греха его тайного, за который заплатил он сполна и по сию пору платит, по великой его просьбе, по великому настоянию назвали, Ирина-то орала (что в семьях пятедесятников вообще невозможно), что хочет назвать дочку Мариночкой, но Иван Сергеевич стоял на своем, дважды за неделю после рождения внучки вызывал сына на переговоры и сломил-таки сопротивление и Ирины, и матери ее Анны, фактической главы общины (номинально глава – старший сын Анны, но он небольшого ума, это еще мягко сказано, у матери в полном подчинении) после смерти ее старого мужа, давнего соперника Ивана за руку белокурой красавицы, какой обещала вырасти и внучка Анечка, беспечно играющая сейчас в песочнице.