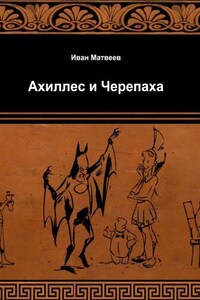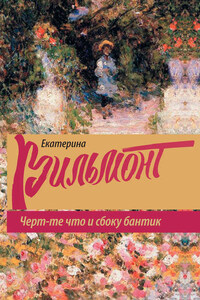В черном, черном лесу на краю черного, черного болота, среди чахлых сосен и вязкой тины, в покосившейся черной, черной избе, обросшей черным мхом, жил-был Темноглот. Кожа его была покрыта тиной, а глаза светились жёлтым, как болотные огни. Говорили, что глотка у него была пустотой и бездной, куда проваливались крики его жертв. Болото съело его душу, оставив лишь злобу.
Каждую полночь Темноглот выходил на тропу и зажигал синий фонарь. Заблудившиеся путники, видя огонёк, думали – тут живёт добрый старик, и шли к нему, утопая по колено в грязи. А когда переступали порог, избушка захлопывалась за ними навсегда, будто пасть.
Утром на болоте появлялся новый уродец: с кожей, как мокрая глина, с пальцами – щупальцами, сросшимися в перепонки, с ртом, зашитым чёрными нитями. Они молча ползали по топи, собирали для Темноглота грибы-поганки, рыли ямы, в которых потом исчезали новые жертвы.
Но однажды к болоту пришла девушка с серебряным колокольчиком – дочь пропавшего дровосека. Колокольчик звенел так чисто, что монстры закрывали уши, а Темноглота завыл от боли. Девушка бросила его в трясину, и болото тут же поглотило колдуна с жадным чавканьем. Твари рассыпались в прах.
А из топи ещё долго доносилось бульканье: это Темноглот, теперь уже навеки раб болота, таскает для него ил в своём прогнившем ведре.
Артёму было настолько плохо, что он не мог встать с кровати. Третьи сутки.
Тело выкручивало изнутри, будто невидимый механизм зацепился крючьями за его жилы и теперь методично, с тупым скрежетом, перемалывал кости в мелкую труху. Каждый сустав горел, будто в него залили раскалённый свинец, каждый мускул сжимался в судороге, рвал связки, выворачивал конечности в неестественных, чудовищных узлах. Даже дышать было больно – лёгкие склеивались, как мокрый целлофан, и каждый вдох отдавался хрустом, будто внутри шевелилось что-то живое, что-то с острыми лапками и хитиновым панцирем.
Его глаза – мутные, с чёрными, бездонными зрачками, которые даже в кромешной тьме комнаты оставались неестественно широкими, – бессмысленно уставились в потолок. Белки были прорезаны алыми нитями лопнувших сосудов, будто кто-то выцарапал на них тонкие, кровавые руны. Веки дёргались в такт пульсации в висках, а в глубине зрачков, если приглядеться, мерцало что-то чужое – крошечные, как игольные уколы, огоньки, будто там, за плёнкой сознания, кто-то зажигал спички.
Взгляд то безучастно скользил по трещинам в штукатурке, которые вдруг начинали шевелиться, расползаясь в паутину мерзких, извивающихся линий, то вдруг становился лихорадочно-живым – когда очередная волна паранойи заставляла его вслушиваться в тишину.
«Скребут… под кроватью скребут…»
Голос был хриплым, чужим, словно его выдавливали из пересохшего горла пальцами. Он знал, что там, в тёмном просвете между полом и матрасом, что-то есть. Что-то, что дышит влажным, прелым дыханием, что-то с длинными, костлявыми пальцами, которые царапают по дереву, оставляя липкие следы. Леший ждёт. Ждёт, пока он наконец не посмотрит вниз. А потолок над ним медленно дышал – штукатурка вздымалась и опадала, как гниющая плоть, и из трещин сочилась тёмная, вязкая жидкость. Капли падали ему на лицо, оставляя жгучие следы, но он не мог пошевелиться, не мог смахнуть их – его тело больше не слушалось. Он пытался собрать воедино осколки мыслей и придумать, где взять денег. Бабкины иконы? Уже проданы. Старый ноутбук? Сдан в ломбард ещё в прошлом месяце. Но боль нарастала, заполняя черепную коробку горячим свинцом. Сейчас главным было избавиться от боли. Где носит, мать его, Никитоса? Вертелся единственный вопрос в голове, как заезженная пластинка. Дозу… Надо дозу… Неожиданно головную боль разорвал пронзительный гадкий звук дверного звонка. Артём застонал. Звонок повторился – настойчиво, злобно.