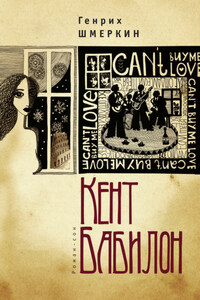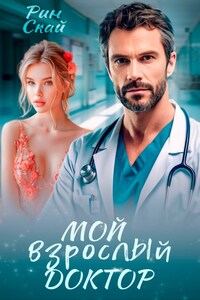Я помню щебет птиц, пятна света на полу; оттого, что был конец апреля и лес стоял в зелёном дыму, оттого, что я всё ещё был молод, оттого, что мои невзгоды, как мне казалось, были позади, этот утренний день остался в памяти как далёкое видение счастья. Через два часа мне пришлось увидеть то, что и глазам врача предстаёт не каждый день.
Заскрипела лестница от быстрых шагов, – в это время я сидел за завтраком, – молоденькая сестра, запыхавшаяся, пышногрудая, вся в белом, стояла, не решаясь переступить порог. Звонили из Полотняного Завода. Значение некоторых географических имён остаётся загадкой, как если бы они принадлежали языку вымершего народа. Название села сохранилось с баснословных времён, и никто уже не мог сказать, что оно, собственно, означало. Здесь никто ничего не производил. Ещё были живы люди, помнившие коллективизацию, раскулачивание, «зелёных братьев» – отчаявшихся мужиков, которые ушли с бабами и детьми в лес, подпалив свои избы. Ещё жили те, кто видел, как обоз с трупами этих мужиков тянулся по мощёному тракту в город. Дальше этих воспоминаний история не простиралась. Так как происшествие, о котором я собираюсь рассказать, в свою очередь отодвинулось в прошлое, то теперь, я думаю, и от них ничего не осталось. Нынешней молодёжи приходится объяснять, что такое колхоз; недалеко время, когда нужно будет справляться в словарях, что значит слово «деревня».
Звонил председатель из Полотняного Завода, мы стали приятелями с тех пор, как я вылечил его от одной не слишком серьёзной болезни. Он, однако, считал, что был опасно болен, перед выпиской из больницы отозвал меня в сторонку и спросил, сколько я возьму за лечение. Я сказал: а вот ты лучше подключи меня к сети. На другой день явились рабочие, вырыли ямы, поставили столбы, протянули линию. С тех пор в моей больничке сияло электричество до утра, а село после одиннадцати сидело с керосиновыми лампами.
Мы с ним виделись иногда, я оказывал ему мелкие услуги, он, случалось, выручал меня; через него я вошёл в привилегированный круг местного микроскопического начальства. Тот, кто владеет знанием непоправимости, кто понял, что ничего в этой стране не изменишь, хоть ты тут разбейся в лепёшку, – тому, ей-Богу, легче жить. И, что самое замечательное, жизнь оказывается вполне сносной. Но я полагаю, что нет надобности подробно описывать мои обстоятельства, в конце концов не я герой этого происшествия. Я приехал на работу не совсем зелёным юнцом, как обычно приезжают выпускники медицинских институтов. Разместился в просторном доме чеховских времён, под железной кровлей, с высокими окнами и крашеными полами. Одна моя пациентка, молодуха из дальней деревни, вызвалась топить печи и убирать комнаты в моих хоромах. Довольно скоро я сошёлся с ней, ни для кого это не было секретом, напротив, люди одобряли, что я живу с одной вместо того, чтобы таскаться по бабам; бывший муж приезжал ко мне то за тем, то за этим, а чаще за выпивкой; так оно и шло. И довольно обо мне.
Не было необходимости тащиться за двадцать вёрст, но председатель был другого мнения. У меня был старый санитарный фургон военного образца, председатель колхоза разъезжал в джипе. Председатель поджидал меня на крыльце правления. Наши места – теперь я уже мог называть их нашими – принадлежат к коренной России, лесистой, мшистой, болотистой, десять столетий ничего здесь не изменили. Первые километры ехали по узкому тракту, затем свернули, началась обычная, непоправимая, где топкая, где ухабистая дорога с непросыхающими лужами, с разливами грязи на открытых местах, с тенистыми, усыпанными хвоёй, в полосах света, просёлками посреди сказочных лесов. И когда, наконец, расступился строй серо-золотистых сосен и в кустарнике, в камышах заблестело спокойное, бело-зеркальное озеро, увидели на другом берегу синюю милицейскую машину из райцентра. Кучка людей стояла перед сараем.