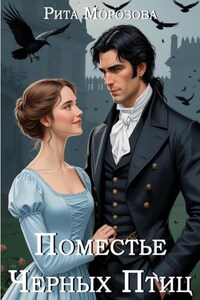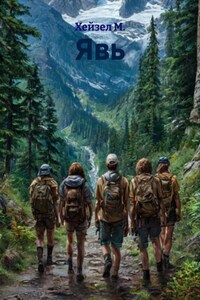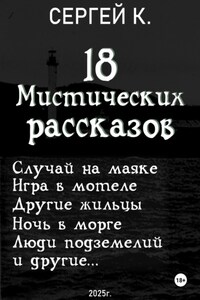Двадцать пять лет назад
Сквозь темную мрачную чащу, спотыкаясь о корни, скрытые под слоем опавших листьев и мха, бежала молодая женщина. Ее платье, некогда, должно быть, изысканное и соответствовавшее моде прошлого поколения, теперь было изорвано колючками, испачкано лесной грязью и пылью. Лицо ее, мелькавшее в редких лунных бликах, являло собой маску чистого, нерассуждающего ужаса. Глаза, широко распахнутые, видели не столько путь, сколько преследующий ее кошмар. Она задыхалась, каждый вдох обжигал горло, но остановиться значило погибнуть. Ее преследовали.
Но не люди. Никаких криков погони, никакого звона шпор или злобного лая своры. Над ней, в чернильной темноте крон, между могучими стволами, беззвучно скользила огромная ТЕНЬ. Она не была единой; она дробилась, сгущалась, пульсировала, как живая. И звук… Звук заполнял все пространство, проникал в кости, в мозг. Громовой, неумолимый ШУМ КРЫЛЬЕВ, будто тысячи могучих птиц били воздух в идеальном, зловещем строю. Но самих птиц почти не было видно – лишь мелькания черного, быстрее взгляда, да отдельные, пронзительные, леденящие душу КАРКАНЬЯ. Они разрывали тишину не просто громко, но с какой-то нечеловеческой осознанностью, будто несли в себе смысл, понятный лишь преследуемой и преследователям. Звучали они слишком близко, будто прямо над ухом, и слишком… преднамеренно зловеще.
Она вырвалась на небольшую поляну, запыхавшаяся, с сердцем, готовым выпрыгнуть из груди. И тут поняла – бежать больше некуда. Тени сгустились на опушке леса, окружая поляну непроницаемым черным кольцом. Шум крыльев достиг апогея, превратившись в оглушительный, всепоглощающий гул, от которого дрожала земля и содрогались деревья. Воздух вибрировал. Женщина остановилась как вкопанная. Медленно, с трудом преодолевая парализующий ужас, она подняла голову к разрыву в кронах, где висела бледная луна. Ее глаза, отражавшие лунный свет, были полны бездонного отчаяния. Рот открылся для крика…
Звук, разорвавший ночь, невозможно было однозначно приписать ни человеческому горлу, ни птичьему клюву. Это был леденящий душу, первобытный КРИК, вопль абсолютного ужаса и обреченности, слившийся на мгновение с самым пронзительным из карканий.
И тогда случилось. Резкий, стремительный всплеск черных крыльев – не сотен, а тысяч, миллиона перьев? – закрыл луну. На миг воцарилась абсолютная, непроглядная тьма. Когда мрак чуть рассеялся, на поляну, медленно кружась, словно оплакивая что-то, опустилось единственное перо. Необычайно крупное, длиннее ладони, иссиня-черное, оно переливалось в скупом лунном свете зловещими сине-зелеными и фиолетовыми отсветами, как масляная пленка.
Тишина. Глубокая, звенящая, неестественная. Пустота. Лес затаился, будто прислушиваясь или ожидая. Ни крика, ни шума крыльев, ни шелеста. Только перо, лежащее на подстилке из мха, как мрачная визитная карточка ночи.
Апрель в Лондоне являл собою зрелище одновременно оживленное и исполненное особого, присущего лишь столице, напряжения. Воздух, уже лишенный зимней колючести, но еще не ставший летним, нес аромат свежей зелени из парков, смешанный с неизменным запахом лошадей, угля и густонаселенного города. Солнце, робко пробивавшееся сквозь легкую дымку, золотило фасады особняков на Харли-стрит, где остановилась карета, доставившая мисс Элеонору Хартли из тишины Девоншира в самую гущу сезона. За окном кипела жизнь, достойная пера наблюдательного хрониста: экипажи всех мастей – от скромных кебов до великолепных бароше с позолотой и ливрейными лакеями – сновали по улицам; дамы в светлых, словно подснежники, нарядах совершали утренний променад в Гайд-парке; джентльмены в безупречных цилиндрах спешили по делам или навстречу удовольствиям. Для двадцатилетней Эллы, чья жизнь до сего момента протекала среди мирных холмов и размеренного ритма сельского поместья, этот вихрь красок, звуков и движения был одновременно ошеломляющим и невероятно волнующим. Однако радость новизны омрачалась обстоятельствами, приведшими ее сюда, и осознанием возложенной на нее миссии.