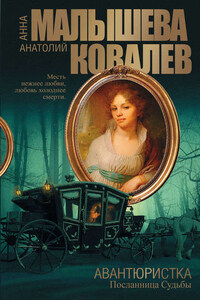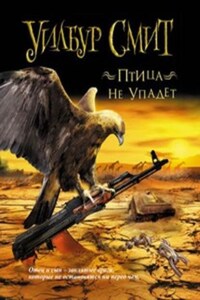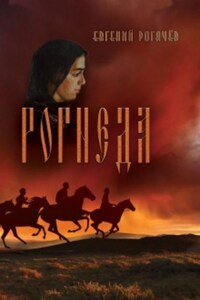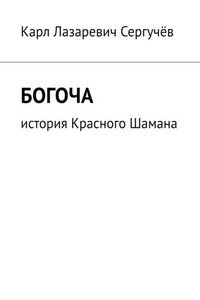Москва загорается
С часу на час ожидали французов, последние обозы покидали Москву, а по улицам сновали подозрительные люди, сильно смахивающие на мародеров. Из каких нор и щелей они выползли в это смутное время – неизвестно, но страха в их наглых сверкающих глазах не было. Из разверстой подворотни слышались стоны умирающих солдат. Им суждено было умереть на чужом дворе, без воды и перевязок, без защиты от врага, без последнего причастия. В их слабеющие голоса резко врывался хохот какого-то безумца, выпущенного на свободу из дома умалишенных.
В это погожее сентябрьское утро графиня Антонина Романовна Мещерская упорно искала мужа. Она почти отчаялась и все чаще прикладывала к вискам платок, смоченный одеколоном. Не помогало. Гонцы, разосланные по всей Москве, возвращались или с вестями настолько бестолковыми, что их и понять нельзя, или пьяными – повсюду были разбиты винные погреба. А то приходили вовсе без вестей. Однако надежды она не теряла. «Отчаиваться грех! – Графиня снова растерла платком ноющие виски, поправила седеющие волосы под кружевным чепцом. – Я – жена и мать! И если суждено мне будет носить траур, я надену его, только когда увижу графа мертвым. А он…» Мальчишка Шуваловых сказывал недавно, что видел Дениса Ивановича Мещерского тяжело раненным, без сознания. Будто бы везли его к Донскому монастырю. Сама графиня Шувалова отбыла в деревню еще пятого дня, не дождавшись вестей об исходе Бородинского сражения. «От страху-то речей лишилась, – с презрением подумала Мещерская. – Сына даже не дождалась. Польстятся на нее французы – как же! Всегда была блажная!»
Сын Шуваловой, граф Евгений, служил при штабе Барклая и, отступая вместе с армией, уже не застал матушки в Москве, однако ж повидался с Мещерскими. Антонина Романовна угостила его, как смогла. Просила прощения за скромный стол, накрытый кое-как, всплакнула даже – ей ли, хлебосольной московской хозяйке, так принимать гостя! Вот уж времена настали – ни подать, ни принять некому… Молодой граф удивлялся, зачем Денис Иванович ушел с ополчением, когда другие в это время увозили своих домочадцев подальше от войны? «Он не верил, что Москву оставят! – в слезах оправдывала мужа Антонина Романовна. – Не желал в это верить, голубчик мой!»
Да, еще недавно многие не верили, обманутые бодрыми афишками генерал-губернатора Ростопчина, призывавшего не покидать Первопрестольной. Ведь уверяли все – и царь, и Кутузов, что Москвы не сдадут. И вот… Ох, как была права ее институтская подруга Олсуфьева! «Какая же ты легковерная, Тоня! – выговаривала она еще весной. – Охота тебе слушать этого краснобая Ростопчина! Он только людей морочит, умней Господа Бога хочет быть. Говорю тебе, уезжай, а то поздно будет, все из Москвы забирай!..» Деревня их всего в тридцати верстах от города. Отправили бы туда имущество, целее было бы… Так ведь Денис Иванович ничего слышать не хотел. «Ежели Москва не уцелеет, где уцелеть деревне! – И, обняв на прощание супругу, добавил: – Не до того теперь, матушка… Право, не до того… Оставим все, как есть, Бог поможет». Сколотил из дворовых людей небольшой отряд, на собственные деньги обмундировал и вооружил своих крепостных и отправился воевать. В глаза его называли героем, за глаза – чудаком.
Во время визита молодого Шувалова дочь Мещерской, Елена, поглядывала на гостя не без смущения. Она то покусывала пухлые нежные губы, то теребила завитые локоны, то оправляла платье… Мать несколько раз взглянула на нее строже, чем обычно. Елена даже не приметила этого. Ее ясные, распахнутые на пол-лица глаза были прикованы к НЕМУ. Евгений в военной форме казался ей чужим, незнакомым, ГЕРОЕМ, призванным их спасти, а вовсе не тем мальчуганом, которого с малолетства все знакомые дразнили ее женихом. Когда два месяца назад он уезжал на войну, они впервые поцеловались. Тихо, целомудренно, при всех – в честь помолвки. Она едва почувствовала тогда прикосновение его горячих губ, голова затуманилась, сердце забилось чаще. После оба не могли поднять друг на друга глаз. Нынче все было по-другому. Война изменила Евгения. Он разом повзрослел, сделался хмурым, серьезным. Он стал мужчиной, и девушка почти боялась его. Он уже не был домашним, милым, московским, родным. От него пахло войной.