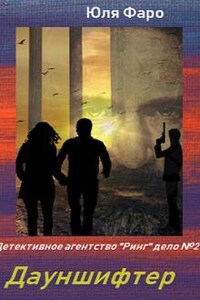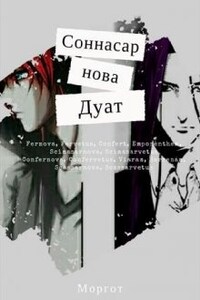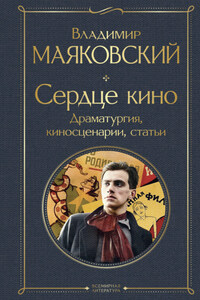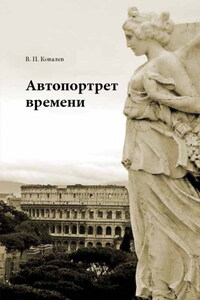Глава 1
«... Изба ведьмы Лукерьи была курной
и топилась по-чёрному. Дым из печи валил прямо в комнату,
расстилался под потолком да медленно вытягивался в волоковое окно с
задвижкой.
Ввалившись с мороза, Егорий еле
устоял на ногах, споткнувшись в сенях о кадку с водой, и чуть не
выронил из рук отяжелевшее, бездыханное тело жены Аннушки.
– Куды покласть? – задыхаясь,
прохрипел он, пялясь слезящимися то ли от едкого дыма, то ли от
безысходного горя глазами на грузную, телесистую старуху в
поношенном сарафане, надетом поверх ветхой юбки-понёвы[1].
Хозяйка, державшая в руках книгу в
потёртом кожаном переплёте, отложила фолиант и тяжело поднялась с
лавки.
– На пол клади, – вздохнув, приказала
ведьма, поправляя выбившиеся из-под платка седые пряди.
И переваливаясь с боку на бок,
медленно пошаркала к печному углу, заставленному закопчёнными
горшками да бутылями с мутной жидкостью.
Егорий бережно опустил «дорогую ношу»
на выскобленные доски и накрыл с головой помятой мешковиной.
– Сам допёр-то? Никто не помогал?
Никто не видел?
– Никто! Нешто я дурак? С деревни
сбёг, ни одна живая душа не встретилась... Ты, старая, не боись! Я
с каторги хорониться приученный. А ноне ещё и Святки, весь
народишко по домам сидит, от нечистой силы укрывается. Всяк
крестьянин Васильва вечера остерегается, кому ж охота на себя
ведьмин гнев навлечь?
Мужик сообразил, что ляпнул лишнего,
и замолк на полуслове, будто язык прикусил.
Бабка гремела посудинами, не
оборачиваясь на полуночного посетителя.
«Можа, не расслышала, глухня
дремучая...», – с облегчением подумал Егорий.
Дурманящий запах травяного отвара
наполнял избу.
– А ты, значит, не из пужливых?! –
проворчала старуха не оборачиваясь. – Только знай, паря, не простое
колдовство мне сотворить придётся, чтобы Анну твою с того света
вернуть. Ох, непростое! И в откуп за него одной твоей грешной жизни
мало. Потому как Анна твоя «тяжёлая» уже, и под сердцем её – дитя
нерождённое. Стало быть, двоих оживлять нужно... А со смертью обмен
вершить только по правде и чести придётся, и не обменяет она двоих
на одного... Не обменяет!
Горькие слёзы потекли по щекам
несчастного, в отчаянии упал он перед бабкой на колени и,
хватая её за грязный подол, начал просить-умолять не отказать ему в
просьбе, сотворить колдовство задуманное.
– Сколь, говоришь, дней минуло со дня
смерти матери твоей, рабы божьей Любови?
– Девять, Лукерья, девять дней, –
простонал несчастный Егорий.
Старуха задумалась, вытерла руки
тряпицей и, перешагнув через распростёртого на полу просителя,
снова присела на лавку, зашелестев жёлтыми страницами какой-то
чёрной книги.
– Быть по-твоему, – наконец
произнесла она. – Отдам себя за дитя нерождённое. Только уж не
обессудь, но и силу свою ведьмовскую с кровью по жилам потомков
твоих пущу. А коль от девятого дня смерти мамаши твоей обряд
вершить станем – так девятой в роду вашем и ведьмой быть!
– Делай что хочешь, Лукерья, – словно
в бреду причитал Егорий. – Только Аннушку мою оживи!
– Что хочешь?! – горько усмехнулась
колдунья. – Буду делать, как прописано... На-ко, отпей.
Лукерья протянула позднему гостю
черпак с мутной жидкостью, и мужик, опасливо перекрестившись, выпил
зелье залпом.
Его тут же разморило и стало клонить
в сон. Расстегнув тулуп, он стащил с кудрявой головы шапку и
привалился спиной к бревенчатой стене, сомкнув глаза.
– Погодь, паря... Не засыпай... –
заволновалась колдунья. – Говори со мной пока... Что на ум придёт,
то и говори.
– За убежденья, за любовь иди и гибни
безупречно. Умрёшь недаром – дело прочно, когда под ним струится
кровь[2]... – еле ворочая языком, прошептал Егор. – Убивай уж
скорее, не жилец я! Меня Спотыкуха, барыня наша, теперь-то всяко со
свету сживёт. Не на каторге сгноит, так до смерти батогами забьёт.
Нет мне обратной дороги! А так хоть род наш не переведётся...
Забирай мою жизнь непутёвую! Только оживи Анну с дитёнком!