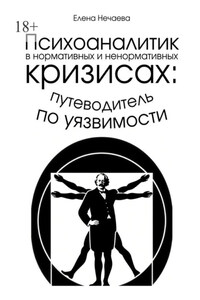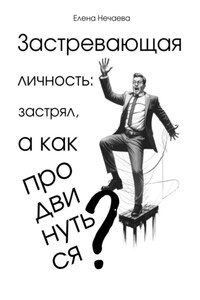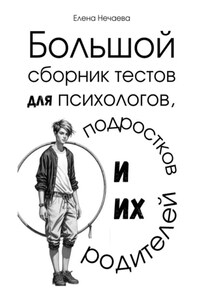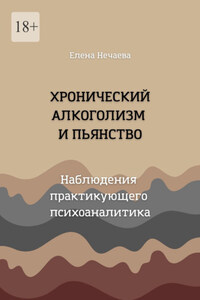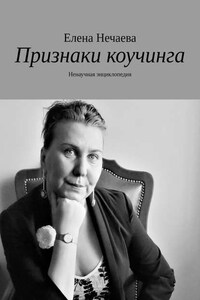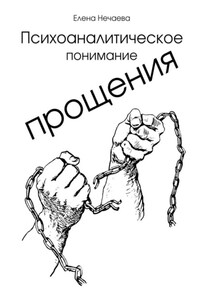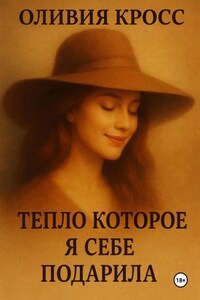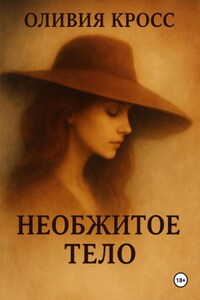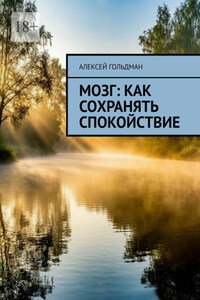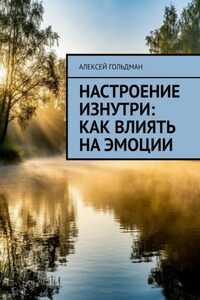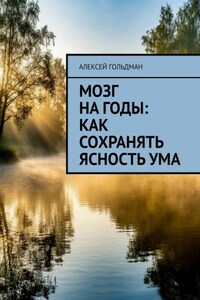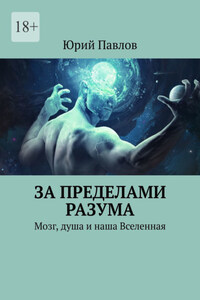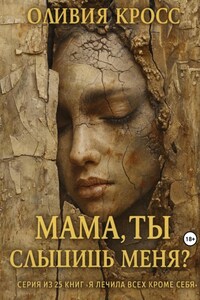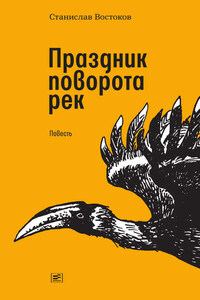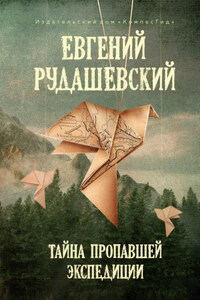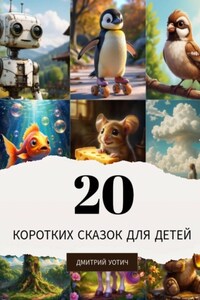На момент публикации этой книги мне 54 года, я – практикующий психоаналитик. Не «доктор», не «гуру», не «хранитель истины». Просто женщина, которая (на момент публикации) восемнадцать лет сидит в кресле рядом с кушеткой, слушая то, что трудно сказать, что больно вспомнить, что невозможно вынести в одиночку.
Я писала книгу как та, кто прошёл и продолжает проходить через составляющие глубину профессии – сомнения, открытия, утраты, этические дилеммы, молчаливые победы.
Книга родилась не только из моих кризисов. Это не исповедь. Здесь нет возвышения над страданием. Она – и из кризисов моих коллег: тех, кто приходил после суицида пациента, кто терял веру в метод, кто в середине жизни спрашивал: «А зачем я это делаю?».
Из тех кризисов, которые не предсказывали ни школы, ни учебники: когда умирают близкие, и ты больше не можешь слышать пациентов; когда пациент просит помочь ему обманывать, и исчезает понимание, как остаться аналитиком; когда «известность» приводит к пустоте, а вакуум и тишина громче любых литавр; когда супервизор предлагает «личный анализ»; когда институция, призванная защищать, становится источником травмы.
Эти переживания – не исключения. Они – часть профессиональной реальности. Их можно классифицировать, но нельзя «просто устранить».
Различаю нормативные кризисы – закономерные этапы профессионального становления, и ненормативные – внешние удары, ломающие привычный ритм, а также самые коварные – гибкие кризисы. Все они требуют не ремонта, а трансформации.
Здесь нет рецептов «как выжить за 7 шагов». Это – попытка систематизации профессиональных кризисов и путеводитель по уязвимости, написанный для тех, кто ищет не идеал, а подлинность.
Я «насчитала» 28 кризисов. Двух не хватило до круглого счёта. Возможно, вы, уважаемые читатели, коллеги, дополните список.
Некоторые из выявленных кризисов будем разбирать чрезвычайно подробно (потому, что о них меньше говорят вслух), некоторые – менее (потому, что «кое-что» известно), а какие-то просто обозначим (потому, что известно).
Центральная идея: кризис – не сбой в системе, а сама система в действии. Он – признак живой, рефлексирующей практики. Голос, который говорит: «Я не знаю», «Я устал», «Я сомневаюсь» – это не слабость, а способность слышать.
Уязвимость – не дефект, а главный инструмент. Только тот, кто знает свою ограниченность, способен удерживать амбивалентность, терпеть неизвестное, не спешить с интерпретацией.
Особое внимание уделено этическим дилеммам, остающимся за кадром: разочарования в супервизоре, давление институций, уходы из профессии – даже до начала практики (самый «тихий» кризис).
Показано: институция, которая заботится о своих аналитиках, заботится и о пациентах. Усталый, изолированный аналитик не может быть контейнером для чужого страдания. Он рискует стать источником травмы.
Изоляция – один из главных врагов. Коллегиальность, лишённая иерархии, создаёт пространство, где можно говорить о страхах. Это не роскошь – это необходимость.
В книге – не только теория. Предложены практические инструменты: тесты для рефлексии. Они не вполне серьезные, но могут помощь интегрировать теорию.
В первом варианте авторского слова предлагаемые вашему вниманию результаты опроса коллег я назвала «вишенкой на торте».
Но, после «обсчета» и интерпретации результатов вишенка превратилась в остов (слегка похожий на монстра), который перевернул структуру повествования и заставил переписать некоторые главы, и я пошла за коллегами.
Это подтверждение: психоанализ не только «скорее жив, чем мертв», но и остается процессом, который можно прекратить, но не завершить.