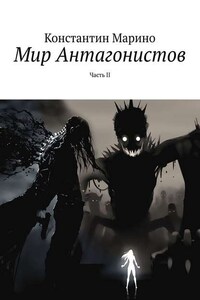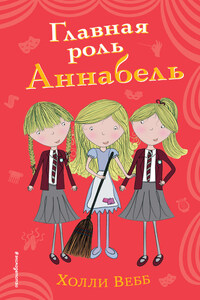1927 год
Митька Гавзов от злости чуть не заревел. Если бы не дружок Толька, он наверняка бы дал волю накопившейся за это лето обиде. Но в присутствии своего закадычного приятеля сделать это никак не мог. Толька Уткин был не из тех, кто мог хранить тайну, и обязательно рассказал бы деревенским мальчишкам. А Митьке этого уж никак не хотелось. Ребятня живо бы подняла его на смех за такую девичью слабость. Им только дай повод. Да что повод. Для них достаточно было лишь намека на него, чтобы кого-нибудь да подразнить.
Он только представил как тот же Сережка Егоркин, скривив рот, непрерывно повторяет: «Рева-корова, рева-корова…», и слезы, готовые уже выкатиться, так и остались где-то глубоко в глазах.
Митька потер заблестевшие от досады глаза. Сглотнув неприятный в горле комок, он в сердцах ударил удилищем по воде.
– Ну, черт…, – не глядя на приятеля, только и смог он сказать.
«Ну, что за напасть такая! Который раз как ужу, тут лесу рву! Будто кто-то специально сидит в реке и ждет, когда я тут удить буду, чтобы уду оторвать, – возмущался он про себя, глядя на обрывок лески без крючка». В прошлые разы он хотя бы самодельные крючки тут терял. Но в этот раз совсем другое дело. Два дня назад крючок ему с городу родственник привез. Красивый такой, гладкий. И острый, острый – такой самому ну никак не сделать.
Митька любил рыбачить в этих местах, а особенно в этом плесе. Чуть выше по реке грохотал Савеловский порог. Здесь же течение несколько ослабевало, и речные буруны растворялись в глубокой яме. Он был намного ниже своих сверстников. Его большая голова с черной кудрявой шевелюрой нарушала все пропорции худенького с узкими плечикам тела мальчишки. Но это никак не сказывалось на его рыбацких способностях. В ней он был не на одну, а даже на две головы выше своих приятелей. Да и не только их. Его уловам порой завидовали ребята, что были намного старше его. Не по годам умелого рыбака уважали и взрослые. В обычной же жизни он был совсем еще мальчишкой с присущим его возрасту детским максимализмом и верой в чудо.
– Дед, ну что такое, а? – жаловался Митька.
– Я там уж сколько крючков оборвал. Чего я теперь мамке скажу, если спросит? А она обязательно спросит! Жалко крючка. Заводской. В деревне только у Попиков1 такие видел. Я даже ребятам его не успел показать. Толька токо и видел. Хоть ему показал.
– Так, то, наверное, черт золотой их у тебя отрыват, – улыбнулся старик, скрывая усмешку в окладистой бороде. – Нравятся ему такие крючки, вот и рвет нитку. Или таким вот способом предостерегает, чтобы тут не удили.
Митька не первый раз слышал от деда о каком-то «золотом черте». Но до сегодняшнего дня особого значения этому не придавал, каждый раз считая, что больше с ним такого не приключиться. А сегодня такая досада его взяла на того черта, что он всерьез задумался этого черта изловить и наказать, чтоб знал как крючки его красть. Но что за черт и откуда он взялся там, он не знал, а потому сделав серьезное лицо, подошел к голубцу2, где лежал Тимофей Петрович, с намерениями узнать всё об этом воришке.
– Ты, чего? – подняв голову, спросил старик.
– Дед, расскажи мне о «золотом черте», – серьезно проговорил Митька.
– О черте? – дед оторвал голову от подушки. – А что, сильно он тебя одолел? Ты никак удумал чего?
– Дед, а дед, ну, расскажи. А я тебе… я тебе сено свежее в подушку набью! – произнес внук первое, что пришло в голову.
Утром, собираясь на рыбалку, слышал он, как старик ворчал на Митькину мать, снова ее ругал и что-то выговаривал. И в подоле-то она Митьку принесла. И хозяйство в доме совсем запустила. И что даже в подушке прошлогодняя солома набита, и сменить ее некому. Насчет «подола» Митька давно уже всё понял и через это к деду не подступиться. А вот солома помочь ему может. Не будет он мать с бабкой просить, а сам старику в подушке солому или сено поменяет. После этого старик ну никак не откажется, и расскажет ему о том черте всё, что знает.