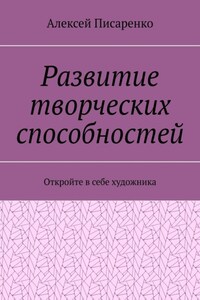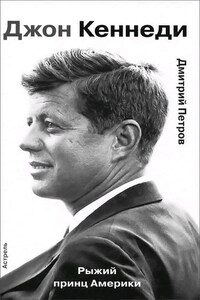За тяжелым бархатным занавесом пахло пылью и старым страхом. Воздух был густым, пропитанным потом тысяч предыдущих выступлений, вобравшим в себя обрывки трепетных молитв и дурманящего успеха. Здесь, в этом полумраке, стояла настоящая, непарадная жизнь сцены.
Виктор Орлов стоял недвижимо, как скала. Сквозь массивную ткань доносился приглушенный, будто из другого измерения, гул зала – нетерпеливый, полный ожидания. Для него этот шум был белым шумом, фоном, лишенным смысла. Он не нервничал. Он презирал волнение, считая его уделом дилетантов, не овладевших своим ремеслом настолько, чтобы довериться мышечной памяти и холодному расчету. Для Виктора это была рутина, еще один ритуал в длинной череде ему же самим воздвигнутых алтарей.
Его руки, длинные, с тонкими, ухоженными пальцами аристократа или хирурга, лежали расслабленно вдоль тела, но внутри них жила своя жизнь. Кончики пальцев непроизвольно, едва заметно перебирали невидимые клавиши, проигрывая сложнейшие пассажи из его программы. Это была не разминка, а скорее проверка связи, подтверждение того, что совершенный инструмент – его тело – готово к работе.
Из зала донеслись аплодисменты. Вялые, вежливые, разрезанные паузами – аплодисменты-обязанность. «Дилетант», – беззвучно, одним движением нейрона, пронеслось в его сознании. Он даже не вспомнил, кто только что играл. Неважно. Все они были на одно лицо – старательные, бледные, напуганные собственным тщеславием. Его губы чуть тронула кривая, почти незаметная улыбка. Сейчас он выйдет и совершит не творческий акт, а технический демарш. Он обрушит на этот сонный, сытый зал такой водопад чистого, алмазного звука, такую лавину безупречной техники, что эти вежливые хлопки разорвутся в настоящий гром, в стоячую овацию, в капитуляцию.
Он почувствовал на себе чей-то взгляд и медленно повернул голову. Из противоположного крыла на него смотрела молодая скрипачка, следующая за ним по программе. Ее глаза были широко раскрыты, в них читалось немое восхишение, смешанное с робостью, будто она увидела не коллегу, а монумент. Виктор встретил ее взгляд, и его собственные глаза, серые и холодные, как озерная вода в ноябре, не выразили ничего. Ни одобрения, ни поддержки. Он просто отвел взгляд, будто отодвинул неодушевленный предмет. Его лицо, с резкими, высеченными чертами, осталось каменной маской, обращенной к занавесу.
Он ждал не музыки. Музыка была для него лишь средством, формулой, кодом. Он ждал капитуляции. И зал, затаивший дыхание по ту сторону бархата, уже был для него не собранием ценителей искусства, а крепостью, стены которой он вот-вот сравняет с землей.
И вот он вышел. Не вышел – явился. Ровный, холодный свет софитов выхватил его из полумрака и вознес над залом, превратив в одинокий, величественный монолит. Он не пошел к роялю – он приблизился к нему, как фехтовальщик к барьеру, отмеряя шаги с безразличной точностью. Гробовая тишина, воцарившаяся в зале, была данью уважения, которую он принял как нечто должное, не более.
Он сел. Движение было лишено суеты, отточенно и экономично. Он не поправлял фалды фрака, не искал удобное положение. Он просто опустил руки на клавиши, и зал замер, затаив дыхание в ожидании чуда.
И чудо произошло. С первого же прикосновения родился звук – не робкий, не вопрошающий, а абсолютный, кристально чистый, как сколотый с самой вечности алмаз. Это был Бетховен. Аппассионата. Но не та, знакомая, бушующая, полная титанической борьбы и человеческих страстей. Нет. В руках Орлова она преобразилась в нечто иное.