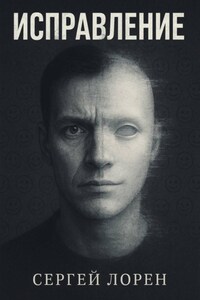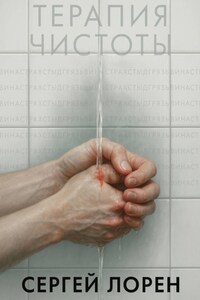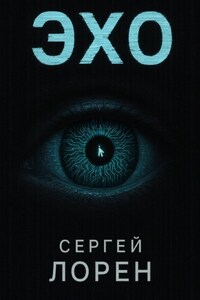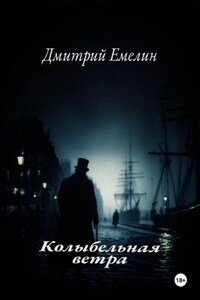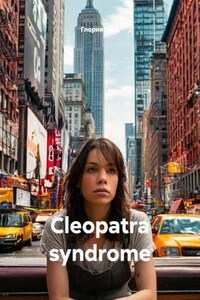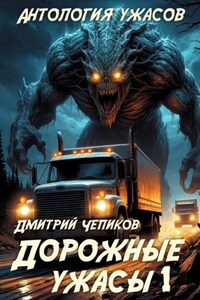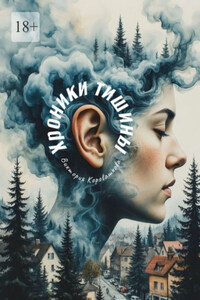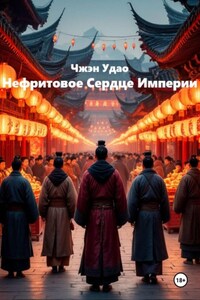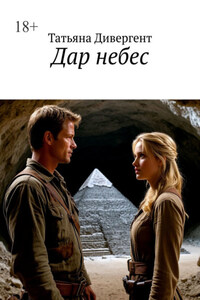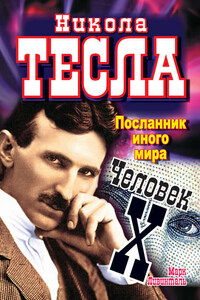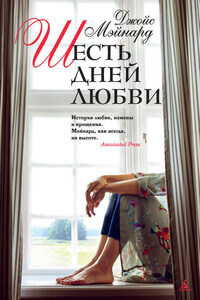Тихий кабинет. Это было не просто название на двери из матового стекла с лаконичной гравировкой «Анна Воронцова. Психотерапия». Это была концепция, философия, броня. Пространство, из которого изъяли всё лишнее: случайные звуки, резкие запахи, кричащие цвета, саму возможность спонтанности. Воздух здесь, на двадцать седьмом этаже старинного особняка, переоборудованного в элитный офисный центр с видом на застывшую ртуть Патриарших прудов, казался отфильтрованным, дистиллированным, как и мысли, которые позволялось произносить вслух.
Стены, выкрашенные в сложный оттенок серого, который менялся от жемчужного до грозового в зависимости от света за панорамным окном, поглощали звук. Тяжелые шторы из фланели того же оттенка были всегда приоткрыты ровно настолько, чтобы город внизу казался детально прорисованной, но немой картой, абстрактным узором из огней и теней, не имеющим власти над этой высотной цитаделью. Мебель – два кресла из мягкой кожи цвета слоновой кости, низкий столик из темного дерева, на котором никогда не стояло ничего, кроме стакана воды, и стеллаж, где корешки немногочисленных книг были подобраны по цвету, как клавиши рояля, – всё подчинялось идее абсолютного контроля. Здесь не было семейных фотографий, дипломов в рамках, сувениров из поездок. Ничего личного. Ничего, что могло бы выдать в хозяйке кабинета человека, а не функцию.
Анна Воронцова была идеальным дополнением этого интерьера. Сегодня на ней был кашемировый костюм цвета мокрого асфальта, идеально сидящий на её подтянутой фигуре. Длинные темные волосы собраны в тугой, безупречный узел на затылке, ни единого выбившегося локона. Лицо, которое многие назвали бы красивым, в её исполнении становилось строгим: высокие скулы, прямой нос, тонкие, плотно сжатые губы. И глаза – большие, серые, как зимнее небо над Москвой, – смотрели на собеседника с пристальным, почти медицинским вниманием. В них не было ни сочувствия, ни осуждения. Только анализ.
Её метод был скальпелем. Она не предлагала утешения, не раздавала пустых советов. Она вскрывала. Аккуратно, слой за слоем, она снимала с пациентов их защитные механизмы, их ложь самим себе, их рационализации, добираясь до гноящейся раны, которую они прятали даже от себя. Это была болезненная процедура, и клиенты платили за неё огромные деньги. В этом кресле напротив неё сидели люди, управлявшие судьбами корпораций, банков, медиаимперий. Титаны, привыкшие повелевать. Здесь, в тишине её кабинета, они превращались в испуганных детей, дрожащих от собственных теней. И она, Анна, была их единственным проводником в этом персональном аду. Она держала нить. Она контролировала лабиринт.
Человек в кресле напротив кашлянул. Игорь Лебедев, медиамагнат, чьё лицо не сходило с обложек Forbes, выглядел сейчас не как хищник, а как загнанный зверь. Его дорогой костюм от Brioni был помят, узел галстука ослаблен, а пальцы с нервной быстротой теребили запонку из белого золота.
«Они следят за мной, – его голос был хриплым, приглушенным. – Я это чувствую. Везде. В машине, в офисе, дома. Камеры. Жучки. Я проверял. Мои безопасники клянутся, что всё чисто. Но они лгут. Или они идиоты. Или… или они тоже на них работают».
Анна молчала, позволяя его словам повиснуть в стерильном воздухе. Она наблюдала. Зрачки расширены, дыхание поверхностное. Уголки губ опущены. Классические маркеры тревожного расстройства с параноидальным компонентом. Она сделала мысленную пометку. Лебедев был у неё уже полгода. Его панические атаки стали реже, но паранойя, наоборот, кристаллизовалась, обретала всё более четкие, гротескные формы.
«Что заставляет вас так думать, Игорь?» – её голос был ровным и спокойным, как гладь воды в безветренный день. Контрапункт его рваной, сбивчивой речи.