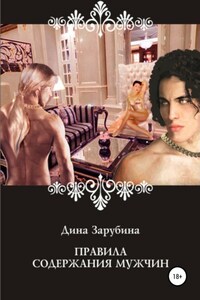Магистр внимательно проследил за движением кровяной капли по гладкому обсидиану. Хороший артефакт, действенный.
– Тут ведьма, совсем рядом. Смотрите внимательней.
В бельевой лавке в двух шагах что-то стукнуло, брякнуло, на порог вывалилась конопатая девчонка, под визги хозяйки помчалась за угол. Вслед ей неслись грозные крики толстой тетки.
– Ах ты, дура косорукая! Только вернись, Лотти, я тебя метлой отхожу!
Из двери приветливо махали кружевами панталоны и прочая нижняя женская одежка.
Магистр отвел глаза и брезгливо скривился. Разврат и пошлость! Доберется он до них еще!
Тетка ахнула и тут же склонилась в низком поклоне. Впрочем, как и все в этом углу рынка. Магистра хорошо знали и боялись.
– Ищите, братья, двое влево, двое вправо, трое со мной, – магистр проследовал дальше, провожаемый опасливыми взглядами.
***
Я сидела в курятнике, пережидая, пока гневные вопли стихнут.
Тетка криклива, да отходчива. Подумаешь, яйца варила, да на огне забыла! Ну, выкипели и поджарились, и к потолку прилепились… Да у меня такое через раз. Тетка ругается, что такой дуры никчемной свет не видывал, но я стараюсь, правда, стараюсь! Отвлекаюсь только часто. Оно само, честное слово!
Тетка меня кормит, поит, одевает… надо же ей затраты компенсировать? Ясное дело, работать надо! Помогать. Тетка сама чуть свет встает, по дому хлопочет. А у меня все из рук валится. Не знаю, почему. Вроде ни кривая, не косая, руки на месте, и слух, и зрение, а ровно сглазил кто.
Тетка меня даже к ученому докторусу таскала, изъян искала. Не нашел он ничего. Ух, и злилась тетка, говорит, уж за два-то серебряника непременно что-то найти должен был! Здоровая я телесно. И душевных отклонения патер Цецилий не увидел. Ходим в храм дважды в неделю, каждый день не находишься, кто в лавке тогда сидеть будет?
Вот мою пол. Хорошо мою, старательно тру мыльной щеткой каменные плиты, тряпкой протираю насухо. Кусочек, два кусочка… а потом, будто во сне, я смотрю на радужные пузыри, и они мне звенят песенку тихонько, а щетка сама шевелится, только слабо, я ее придавливаю, а она, будто щенок, вокруг меня скакать пытается, как за хвостом своим по кругу, за рукояткой вертится. Я засмеюсь громко, а тут и тетка прибежит, а на полу-то лужа грязная, полы нисколько не чище, и я вся в грязи, с мокрым насквозь подолом.
По кухне помогать и того хуже. Ножи свирепо косятся, тесто пыхтит неодобрительно, кастрюля ворчит, и во всех начищенных боках посуды отражаюсь я – лохматая, конопатая, некрасивая. Расплачусь от огорчения, тетка ворвется, а я так и сижу над луковицей, плачу и нисколечко овощей и не почистила, не нарезала.
Шитье и вышивка тоже не даются. Игла норовит больно уколоть, а бусины в шкатулке прячутся, глазками испуганно посверкивают. Катушки теряются, нитки путаются. Тетка ругмя ругается, нитки-то шелковые, дорогущие!
И в лавке меня не оставишь, потому что не видная я, мелкая и тощая, обходиться с покупательницами не умею, смешно им на меня смотреть. В бельевой лавке девушка должна быть миловидная, расторопная, чтоб с поклонами да щебетом принудила покупку сделать, да расплатиться чистым серебром, а то и золотом!
У тетки товар хороший, дорогой. Рубашечки тонкие, из прозрачного батиста, муслина, туали, шелковой кисеи, есть и попроще, полотняные и льняные, есть и зимние, теплые, из лодена и фланели, но все красивые до невозможности! С вышивкой, мережками, тонким кружевом по краю. Есть на каждый день, есть для первой брачной ночи соблазнительные наряды.
Тетка всем врет, что из Тара, Орвиля, Семинохии товар. Брешет. Дядька каждый сезон в монастырь ездит у излучины Надиши, две недели туда, три обратно, вот и привозит. Монашки ткут, шьют, кружева плетут, да помалкивают, кому сбывают.