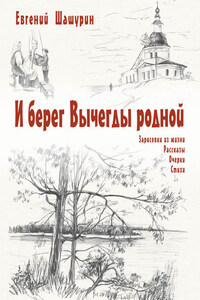— Ксюш, поговори со мной, — пытаюсь
достучаться к дочери, которая уткнулась лицом в подушку и сложила
руки под лоб.
Бесполезно.
Она лишь дергает плечом и просит
отстать.
Я не сразу увидела, что она не в
настроении. Сестра забрала ее из садика, она успела прошмыгнуть
мимо меня, а я продолжила работу над курсовой, которую мне заказали
несколько дней назад. Только через час заметила, что дочка лежит
вот так на кровати и совсем не отзывается.
Я вздыхаю и встаю, решаю позвать ее
на ужин позже и даже берусь за ручку двери, чтобы выйти из комнаты,
но Ксюша меня останавливает словами:
— Где мой папа?
Я резко разворачиваюсь, не зная, как
реагировать, чтобы не ранить ее детское сердце.
— В садике половину девочек папы
забирают. И они хвастаются.
Она садится на кровати и смотрит на
меня своими карими глазами так, что я действительно едва делаю
несколько шагов и сажусь рядом с ней. Она напоминает мне своего
отца: упрямым выражением лица, высоко вздернутым подбородком и
надутыми пухлыми губками. Мне кажется, Ксюша взяла от меня…
ни-че-го. Вся в отца. Полная его копия.
— Солнышко, я ведь уже говорила,
почему папа не живет с нами.
— Говорила, — соглашается. — Но он
же где-то есть? Почему он не приходит ко мне?
Ксюша не в первый раз спрашивает об
отце. За последние пару месяцев это уже третий раз, но мы никогда
не заходили так далеко. Обычно она ограничивалась простым ответом
вроде “У него много работы и совсем нет времени на нас”, но не в
этот раз. Она хочет знать, где он, что с ним, и я не удивлюсь, что
через минуту потребует знакомства.
— Малыш, он о тебе не знает.
Я должна была сказать ей раньше, но
считала, что она маленькая. Полгода назад, когда она задала первый
вопрос об отце, возможно, но сейчас… я больше не могу делать вид,
что ничего не происходит.
— Как это не знает? — искренне
удивляется дочка. — Не знает, что я родилась?
— Не знает, солнышко.
Я мысленно готовлюсь к трудному
разговору и разбираю в уме возможные ответы, но Ксюша быстро
произносит:
— Так позвони ему и скажи, что я
есть. Пусть возьмет конфеты, плюшевого мишку и приедет.
Ком застревает где-то глубоко в
горле, и я не могу его сглотнуть. Я ведь знала, что так будет,
предполагала, что дочка спросит об отце, а я не смогу соврать и
сказать что-то в духе, он был летчиком и однажды его самолет
разбился. Как и не смогу выставить Руслана виноватым. Он ведь не
бросал ее. Он просто о ней не знает.
— Мама! Мама! — трясет меня дочка,
встав на кровать ногами. — Звони ему, мама! Скажи, что я есть! И
что я его жду.
Мое дыхание спирает, хочется
зажмурить глаза и представить, что меня здесь нет. Мне нужно ей
что-то ответить, а я не могу, потому что слезы застилают глаза.
— Я не могу ему позвонить.
— Почему?
Ксюша перестает прыгать и трясти
меня, как волшебное деревце, с которого падают яблоки.
— Потому что у меня нет его номера.
И я не знаю, где он живет, — опережаю ее. — Наш мир слишком
большой, солнышко. Папа ведь даже не в этой стране.
Она заметно поникает, падает попой
на подушку и подтягивает коленки к подбородку.
— Он что… никогда-никогда обо мне не
узнает? И не придет? Как его зовут, мама? А фамилия? Как у нас с
тобой?
Она смотрит на меня из-под опущенных
длинных ресничек так, что я чувствую каждую каплю вины, которая,
кажется, переполнит чашу и выльется наружу рекой моих слез. Ее
тяжелый печальный взгляд становится невыносимым, а когда в глазах
появляются слезы и медленно стекают по лицу, я хочу провалиться
сквозь землю.
От необходимости отвечать меня
освобождает звонок в дверь. Вцепившись в эту возможность, бегу
открывать. Там сестра с сыновьями. Они живут этажом ниже и часто
приходят к нам просто посидеть. Уже взрослые тринадцатилетние парни
заходят в комнату и, как дома, проходят вглубь квартиры. Слышу, как
Ксюша визжит. Видимо, Олег или Паша, подхватили ее на руки, и она
отвлеклась.