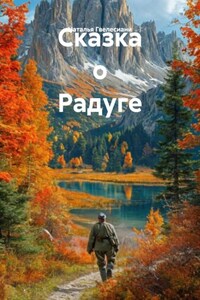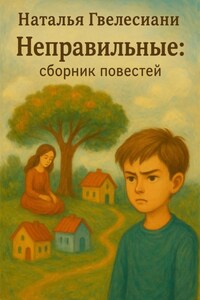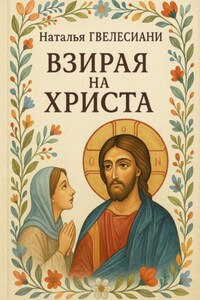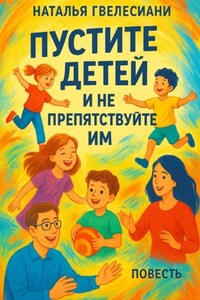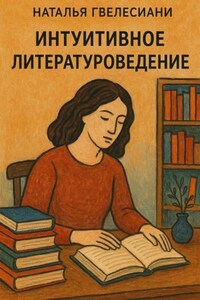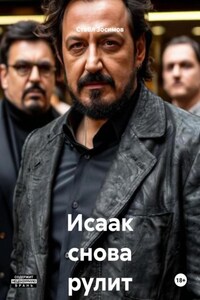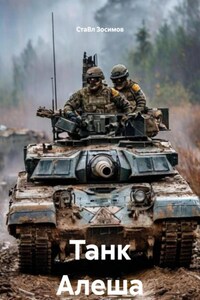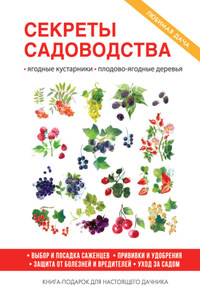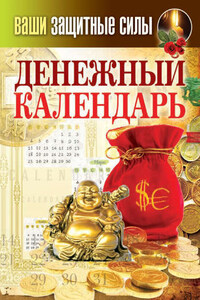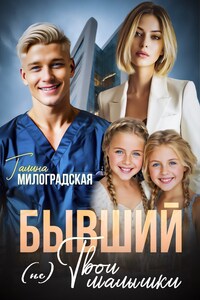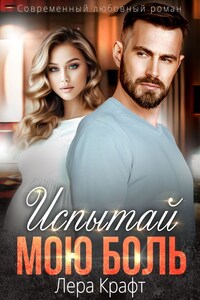Предисловие
Когда-то полузабытый ныне русский писатель-сказочник Н. Вагнер, живший в 19 веке,– он был автором популярного в свое время сборника «Сказки Кота-Мурлыки» – написал "Сказку о принце Гайдаре".
По моему мнению, подсказанному мне художественным чутьем, ее внутренний сценарий, или скажем так – внутренне семя – по закону глубинного родства душ – воплотился в жизни и судьбе советского детского писателя Аркадия Гайдара. Причем, он мог при этом и не знать о сказке Вагнера. Хотя последнее маловероятно.
Ведь Вагнер даже одно время преподавал в Нижегородском Александровском дворянском институте. И наверняка его имя было потом на слуху в провинциальном нижегородском Арзамасе, где жил юный Аркадий.
Когда я приступила к написанию романа, реальная жизнь А. П. Гайдара, как и жизнь и судьба современного литератора Годара, который пишет о нем в романе книгу – стали превращаться в невероятно насыщенное, увлекательное повествование. Биографические факты при этом причудливо переплетались с вымыслом и фантастикой. Но фантазия исходила не от авторского произвола. Все это буквально струилось из внутренней Глубины. Озаренная внутренним светом и теплом, силой и благородством, эта Глубина и порождает все внешние события, которые, зеркально отражая этот глубинный Свет, теряя его в отражениях – плавают потом на поверхности, подобно ряби или бурным, темным волнам, закрывающим всякую попытку понять, увидеть, почувствовать. Только встав с Глубиной лицом к лицу можно вкусить смысл Бытия. И – разгадать внутреннюю логику внешних событий – от личных до исторических. Задача человека – увидеть себя с Божьей помощью в Зеркале подлинного Бытия. И – стать, наконец, собой.
Произведение, которое, однако, можно рассматривать совершенно отдельно, составляет вместе с моим более ранним романом «Дорога цвета собаки» своеобразную дилогию.
Часть первая. РАДУГА
« – Я за революцию, – коротко и упрямо повторил он, – за революцию, которую делают силой. И за то, чтобы бить жандармов из маузера и меньше разговаривать… Как это, ты читал мне в книге? – обратился он к одному из рабочих.
– Про что? – спросил тот, не понимая.
– Ну, про эти самые… про рукавицы… и что нельзя делать восстания, не запачкавши их.
– Да не про рукавицы, – поправил тот, – там было написано так: «революцию нельзя делать в белых перчатках».
– Ну вот, – тряхнул головой Лбов, – я за это самое «нельзя».
Поняли? – проговорил он, вставая, и рукой, разрисованной узорами запекшейся крови, провел по лбу. – Вот я за это самое, – повторил он резко и точно возражал кому-то. – И если бы все решили заодно, что к чертовой матери нужна жизнь, если все идет не по-нашему… если бы каждый человек, когда видел перед собой стражника, или жандарма, или исправника, то стрелял бы в него, а если стрелять нечем, то бил бы камнем, а если и камня рядом нет, то душил бы руками, то тогда давно конец был бы этому самому… как его. – Он запнулся и сжал губы. Посмотрел на окружающих. – Ну, как же его? – крикнул он и чуть-чуть стукнул прикладом винтовки об пол.
– Капитализму, – подсказал кто-то.
– Капитализму, – повторил Лбов и оборвался. Потом закинул винтовку за плечо и сказал с горечью: – Эх, и отчего это люди такие шкурники? Главное, ведь все равно сдохнешь, ну так сдохни ты хоть за что-нибудь, чем ни за что».
Cтрочки были как каленные провода внутри лампочки. Слишком сильный свет – сухой и жаркий, выжег сермяжной правдой появившуюся было надежду – тонко привставшую на кончики пальцев, как едва проклюнувшаяся трава, чтобы дотянуться до выключателя, схватившуюся за голову и – ничего не сумевшую. Ей, надежде, хотелось простого тепла, а ее огрели стремительным светом и, перед тем как сникнуть, она жалобно выплеснула единственное свое богатство – капельку влаги… Но и этого было достаточно, чтобы Годар все-таки встал и заходил по комнате.