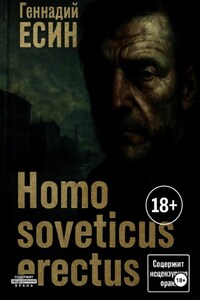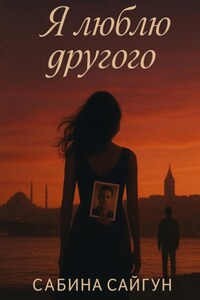Глава 1. 22 июня 2025 года
Над городом медленно опускались сумерки, затягивая небо густыми мазками оранжевого и лилового. Последние лучи солнца, словно не желая уступать власть надвигающейся ночи, цеплялись за острые шпили и грани крыш, окрашивая стёкла многоэтажек в оттенки расплавленного золота. Воздух был тяжёлым, пропитанным запахом раскалённого за день асфальта, выхлопных газов и сладковатым душком перезревающей липы из ближайшего сквера. Где-то вдалеке, глухо позванивая на стыках рельсов, брёл почти пустой вечерний трамвай. Его слепые глаза-фары мерцали в дымке, как блуждающие огни в наступающей темноте. Ветер, поднимаясь с пустынных проспектов, шевелил обрывки газет и афиш, прижатых к земле чьими-то небрежными шагами, и нёс с собой какофонию большого города: приглушённый гул машин, заунывный лай собак, обрывки смеха и музыки из открытых окон.
С балконов стандартных девятиэтажек спального района доносились обрывки разговоров, ссоры, смех, звон посуды – непритязательная, бытовая симфония жизни. Где-то за стеной спорили о политике, где-то настойчиво плакал ребёнок, а из открытой форточки третьего этажа лилась заунывная, хриплая мелодия старого шансона о несбывшейся любви. Жизнь текла своим чередом, глухая и слепая к чужой боли, к чужим потерям, поглощённая своими сиюминутными заботами.
В одном из окон, на девятом этаже, вспыхнул жёлтый, болезненный прямоугольник света. Старая люминесцентная лампа на кухне, мигнув раз-другой, с натужным гудением загорелась в полную силу, отбрасывая на стены, заставленные банками с консервацией, дрожащие, нервные тени. Они колыхались на обоях с выцветшим узором, будто пытаясь удержать что-то неуловимое – может быть, ускользающее время, а может, просто последние следы дневного тепла, уступающего ночной прохладе.
Валентина Петровна вошла в маленькую, тесную кухню. Её неспешные шаги едва слышно шуршали по вытертому до дыр линолеуму с безликим геометрическим узором. Её некогда стройная фигура была сгорблена грузом прожитых лет, но в осанке ещё угадывалась былая стать – прямая, негнущаяся спина учительницы старой закалки, привыкшей держать в строгости и страхе целые классы. Седые, тонкие как паутина волосы, собранные в аккуратный, тугой пучок, поблёскивали в мертвенном свете лампы, словно припорошённые утренним инеем. Лицо её, когда-то красивое и властное, было изрезано глубокими морщинами, каждая из которых казалась шрамом от прожитой жизни – глубокие складки у поджатых губ, тонкие лучики у глаз, когда-то живых, смеющихся, а теперь лишь устало щурящихся от слабого, раздражающего света.
Привычным движением она поставила на конфорку закопчённый, старый эмалированный чайник. Металл зашипел под каплями воды, успевшей натечь из тонкой, скулящей струйки крана. Вода здесь всегда была жёсткой, отдававшей лёгким, но упрямым привкусом ржавчины и хлора. Но старая женщина давно, очень давно перестала обращать на это внимание. Пальцы, узловатые от запущенного артрита, с трудом разгибаясь, потянулись к верхней полке – там стояла старая жестяная коробка из-под монпансье с выцветшими розочками. Мята. Единственное, что ещё хоть как-то помогало заглушить тревогу и уснуть в давящей тишине квартиры.
В углу, на краю застеленной клеёнкой стола, тихонько потрескивало и шипело старое радио марки «Спидола», подарок мужа ещё в далёкие, счастливые восьмидесятые. Из его динамиков, затянутых серой тканью, лилась скрипичная соната Бетховена, знакомая до каждой ноты, до каждой вибрации. Когда-то, кажется, в другой жизни, под эту самую мелодию они танцевали с ним в их первой, тесной, но невероятно уютной квартирке… Тогда ей ещё казалось, что впереди целая вечность, дети вырастут счастливыми, а старость будет тёплой, солнечной, окружённой заботой близких.