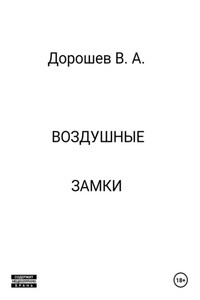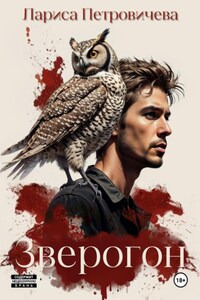В городишке Мерристон хлестал злющий ливень – и сквозь ливень и ночную тьму по улице, задыхаясь, бежала девочка.
Топот за спиной. Топот все ближе. Сердце колотится уже где-то в горле. Только бы успеть завернуть за угол, только бы добежать до заветной калитки раньше, чем грубая рука схватит тебя за волосы…
Боже, как скользко – а надо бежать из последних сил! Ноги в истертых туфельках разъезжаются на мокрых камнях мостовой, избитых водяными струями, блестящих в желтом свете фонарей… Только бы не упасть, только бы не поскользнуться, если упадешь – конец…
Ох, это не дождь, а ледяной океан. Платье промокло насквозь; как холодно! Кровь стучит в висках, и, кажется, сил уже нет… Но надо бежать – иначе…
Но вот и поворот, вот и калитка; скорее, скорее!!! Калитка заперта, но девочка знает, на какой потайной рычажок надавить, чтобы она открылась. О Боже, его заело! Девочка дергает рычаг изо всех сил, а топот все ближе… Наконец – получилось! Она успевает юркнуть внутрь, задвинуть засов и со стоном опуститься на мокрую землю. И зарыдать взахлеб, кусая руку, чтобы заглушить звуки, чтобы не выдать себя…
Мужчина, который гнался за ней с плеткой в руках, озадаченно осматривает улицу, которая совершенно пуста, затем, ругаясь сквозь зубы, отправляется обратно.
Девочка с трудом встает, поднимается на крыльцо дома и стучит дверным молотком.
Не сразу, но через примерно минуты две-три раздаются шаркающие шаги, кто-то возится с засовами; наконец, дверь отворяет крошечная иссохшая старушка в старомодном чепце и ахает, увидев дрожащего от холода ребенка; с волос малышки струйками стекает вода.
– О Небеса, входи скорее, – лепечет она, заводя девочку внутрь.
Через пару минут девочка уже переодета в теплый старушкин халат, ноги ее закутаны пледом, а голова полотенцем. Сидя в кресле, она жадно пьет горячий чай, время от времени вытирая слезы, которые сами текут из глаз, и унять их нет никакой силы.
– Это отчим тебя так? – осведомляется хозяйка дома, указывая на свежий синяк на скуле.
– Нет, это матушка, – девочка шмыгает носом. – Отчим меня хотел плеткой, но я удрала…
– Переночуешь у меня, Синди, – вздыхает старушка.
Девочка молчит, словно собирая все свое мужество для вопроса, ответ на который она услышать хочет, но страшится.
– Бабушка Эвелетта, – наконец спрашивает она дрожащим голоском, – а вы ходили в мэрию? Насчет меня?
В глазах ее горит отчаянная надежда.
В ответ старушка только прерывисто вздыхает, из чего Синди становится совершенно понятно, что ничего хорошего она сейчас не услышит.
– Не отвечайте, я все поняла, – говорит она тихо, как взрослая.
Старушка, опираясь на стул, добирается до соседнего кресла, и охая, садится в него. Садится, постанывая, и видно, что у нее болят все суставы.
– Они говорят, что я слишком стара, чтобы взять ребенка на воспитание. Отчасти они правы – я еле таскаю ноги, и как знать, не завтра ли я отдам Богу душу? Мне уже девяносто восемь! Я уж и завещание написала – оставила все своей племяннице, и просила ее в завещании о тебе позаботиться. Я бы тебе оставила – но ведь опекунами поставят твою родню…
– А они все пропьют, – горько усмехнулась малышка.
– Я уж говорила им, в мэрии, что они к тебе плохо относятся, но они ответили, что долг родителей воспитывать детей в строгости…
Наступает пауза. Тихо вздыхает Синди, тихо вздыхает старушка.
– Я предлагала деньги твоей мамаше, – наконец, говорит Эвелетта тихо, – хотела тебя выкупить.
– И что? – в голосе девочки робкая надежда борется с выученной безысходностью.
– Я предложила ей все, что у меня есть. А она заломила сумму в десять раз больше. Я сказала, что у меня нет больше, и что ей выгоднее согласиться на то, что я ей предлагаю, а то она и вовсе ничего не получит. Но она расхохоталась мне в лицо и ответила, что если мне так уж приспичило тебя забрать – то я должна продать и заложить все, что у меня есть, а если и этого не хватит….