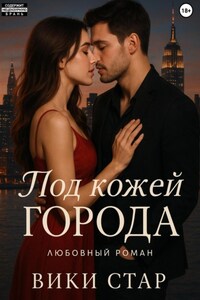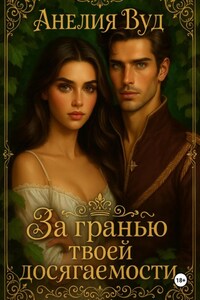Глава 1.
Алиса
Мне семнадцать.
В этом возрасте обычно уже не удочеряют.
Нас не забирают. Нас дотягивают до восемнадцати – и выпускают в никуда.
Я это знала. Знали все.
Поэтому, когда в кабинет вошла Оливия Маршалл с улыбкой, которую носят на благотворительных вечерах, я даже не притворялась, что поверила в «тёплый дом».
Она подошла ко мне, склонилась в дорогом пальто, с ароматом французских духов и кольцом, стоившим, вероятно, больше, чем всё, что я когда-либо держала в руках.
– Алиса, милая. Ты готова?
Нет.
Но я кивнула.
Я оказалась в детском доме в пять лет.
Пять – это возраст, когда уже можешь запомнить лицо матери, но память стирает его слишком быстро, как мел на мокром асфальте: сначала глаза, потом голос, потом только цвет волос и ощущение, будто тебя больше никто не обнимет по-настоящему.
Не как воспитательница, не как нянечка, не как женщина, проходящая мимо и спрашивающая: «А как тебя зовут, солнышко?» – а как кто-то, кто не бросит.
Меня бросили.
Не специально.
Мои родители погибли при пожаре, а меня смогли спасти.
Мы жили в Лондоне, на Кэмден-Гроув, в старом кирпичном доме с облупившейся дверью, но уютом, который тогда казался вечным.
Как я понимаю сейчас, что мы не были богаты, но и не бедны.
Просто… обычная семья.
Мама пекла булочки с корицей по воскресеньям, папа носил нелепые очки и вечно забывал, где оставил ключи, а потом в один день всё сгорело.
Пожар начался ночью, я не помню дыма. Я помню кашель, крик, как меня несут куда-то в темноте.
А потом чужие руки, белый свет, и сирену.
И уже никто не говорит со мной голосом мамы.
В отчёте написали, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Наверное, так и было.
Многие скажут: в пять лет невозможно запомнить столько деталей.
А я вам скажу: если думаешь об этом каждый день – невозможно забыть.
Я перебирала эти воспоминания, как бусы, чтобы ничего не упустить, чтобы не стерлось.
Потому что это всё, что у меня осталось.
Родных у нас не было.
Во всяком случае, таких, кто бы захотел меня забрать.
Я не помню ни бабушки, ни дедушки, ни тёть с дядями, которые бы держали меня за руку и говорили: «Ты не одна».
Может, кто-то и был.
Просто не посчитали нужным.
Не захотели.
Не пришли.
В приюте мне никогда не говорили ничего.
Ни имён, ни адресов, ни историй.
Только одна фраза, снова и снова:
– Всё сгорело, Алиса, и тебя чудом спасли.
Я выросла среди таких же, как я – потерянных, голосистых, диких в своём желании быть замеченными.
Те, кто дрался за игрушки, не потому что они были нужны, а потому что хоть кто-то должен был услышать: я есть.
Я тоже здесь и я живая.
И с каждым годом становилось всё тише.
Не вокруг – внутри.
Внутри меня.
Когда мне было семь, я уже знала, как не плакать ночью.
Когда стало десять – как воровать у старших сигареты, чтобы иметь чем занять руки, пока не уйдёт тревога.
К пятнадцати я научилась быть удобной.
Не потому что хотела, а потому что неудобных никто не берёт.
А теперь семндцать и меня «взяли».
Меня, на которую не смотрели на Днях открытых дверей, когда миловидные семьи с детьми приходили выбирать себе «малыша» с глазами побольше и прошлым поменьше.
Меня, которая стояла в углу, скрестив руки на груди, потому что уже тогда знала: я здесь до конца.
Поэтому, когда они сказали, что «Оливия и Генри Маршалл хотят тебя удочерить», я сначала рассмеялась.
Тихо. В лицо психологу.
А потом – села на кровать и час просто смотрела в окно.
Потому что не знала, как себя вести, что чувствовать и чувствовать ли вообще.
Они пришли сами. Не просто подписали бумаги , а пришли ко мне. Сели напротив, принесли коробку с пирожными, к которым я не притронулась.
Оливия всё время смотрела на меня, как будто я её собака, которую она нашла на улице: грязную, царапанную, но «в ней есть потенциал, Генри».