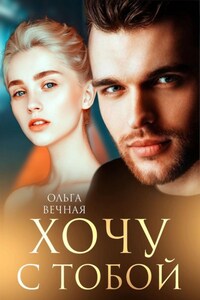Жаркий июньский день 1954 года висел над Уайт-Плейнс, как мокрое одеяло, накинутое на голову. Воздух был густым, липким, пропитанным запахом пыли, скошенной травы и чего-то сладковатого – вероятно, сирени, что росла у забора. Я шла по улице, держа в руках старую потрепанную сумку с покупками – хлеб, мыло, банка консервированной фасоли – и чувствовала, как пот стекает по спине под льняным серым платьем с открытым воротом, которое я купила на распродаже в «Гринвуде». Шляпка с широкими полями прикрывала лицо от солнца, но не спасала от зноя. Я шла медленно, стараясь не спешить, потому что спешка – это грех, как говорила мама. «Девушка из приличной семьи не бегает, словно бродячая кошка».
Пару недель назад мне исполнилось двадцать. Я живу в комнате, которую снимаю у миссис Томпсон за двенадцать долларов в неделю. У меня нет мужа. Нет жениха. Ни одного поцелуя. Ни одного настоящего разговора с мужчиной, кроме как о погоде или цене на картошку. Я родом из маленького городка в западной Пенсильвании, где церковь – это центр жизни, а женщина, которая смеется слишком громко или смотрит мужчине в глаза дольше двух секунд, считается «не той». Где обнаженное тело – это позор, секс – грех, а любое проявление плоти – путь к аду.
Мама учила меня: «Твоя обязанность – быть скромной. Молчаливой. Невидимой. Мужчина должен чувствовать, что ты чиста, а не видеть это». Я слушалась. Я старалась. Я носила платья с высоким воротом, даже летом. Я никогда не заговаривала первой. Я молилась каждое утро и каждый вечер. Я читала Библию. Я пыталась быть хорошей.
Но внутри… внутри было что-то другое. Что-то, что я не могла назвать. Иногда, когда я стояла у окна в своей комнате, сняв шляпку и распустив волосы, я ловила свое отражение в стекле – и замирала. Я смотрела на себя, как на чужую. На шею, на линии плеч, на грудь, слегка очерченную тонкой тканью. И в этот момент я чувствовала… странное тепло. Где-то глубоко, внизу живота. Как будто что-то просыпалось. Что-то, что я старалась игнорировать. Что-то, что я называла «стыдом», но что, возможно, было чем-то иным.
Я не знала, что это. Я не знала, хочу ли я это знать.
Я приехала в Уайт-Плейнс полгода назад, потому что у меня не было выбора. Отец умер, ферма продана, а мама – сломленная, злая, все еще верящая, что я опозорю семью, если задержусь в городе дольше, чем на час после закрытия магазина. Я устроилась упаковщицей в магазин «Фэмили Март» – встаю в пять утра, чтобы успеть на смену, упаковываю продукты, мою полы, выношу мусор. Работа тяжелая, грязная, но платят – и это главное. Двенадцать долларов в неделю – и еще два, если остаюсь после. Этого хватает, чтобы отдавать ренту за комнату, есть и иногда купить что-то новое – например, это платье. Неимоверно дерзкое, по мнению, моих бывших земляков. Но, увы, в «Гринвуде» не продают таких нарядов, в каких я ходила раньше по пыльным улицам в Пенсильвании.
Я не мечтаю в этом большом городе. Я выживаю. И вот, в тот день, когда мир казался мне замершим в своей обыденной дремоте, появился он.
Я шла, глядя в землю, стараясь не привлекать внимания, как учила мама, и вдруг почувствовала, что на меня смотрят. Не просто так, не мимоходом, а всерьез. Я подняла глаза – и увидела незнакомца.
Он стоял на противоположной стороне улицы, и как будто вышел из старого фильма. Высокий, с темными волосами, слегка растрепанными от ветра. В льняной рубашке, расстегнутой на две пуговицы, с трубкой в руке, которую он, видимо, только что вынул изо рта. Его глаза – серые, пронзительные – были устремлены прямо на меня. И в них не было похоти. Не было наглости. Было… признание. Признание меня. Как будто он увидел меня не ту, что идет по улице в платье и шляпке, а ту, что прячется внутри.