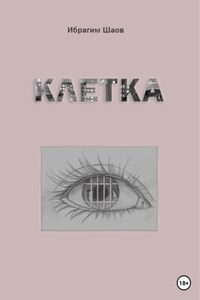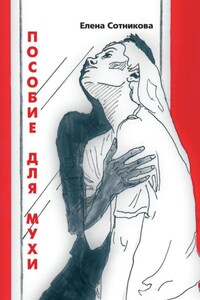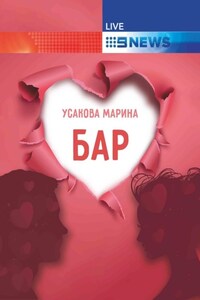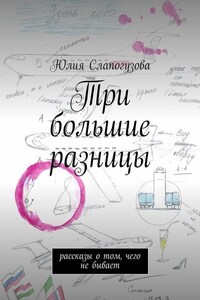Дерзновенным воинам добра, любви и света посвящается.
Это тоже образ мирозданья,
Организм, сплетённый из лучей,
Битвы неоконченной пыланье,
Полыханье поднятых мечей.
Это башня ярости и славы,
Где к копью приставлено копьё,
Где пучки цветов, кровавоглавы,
Прямо в сердце врезаны моё.
Из стихотворения «Чертополох» Николая Заболоцкого.
Июль 2015 года.
Дождь косо штрихует на окне. Картина выходит в духе мрачного импрессионизма – вверху грязно-синее небо, внизу размытая яркая зелень. Последние годы Москву и прилегающие области душила летом страшная дымная жара, и давным-давно не было такого дождливого июля, как нынче. Но молодой женщине тридцати двух лет нет дела ни до дождя, ни до его художеств. Всё, что она видит перед глазами, настолько размыто слезами – почти ничего не различить.
Почему реанимации расположены всегда на верхних этажах больниц?
Здесь, в реанимации, нельзя сидеть, но молодой художнице на это наплевать, она готова сейчас заплатить любые деньги, нарушить любые порядки, запреты и законы, только бы быть с ним до последнего вздоха, до пронзительного писка и ровной линии на мониторящем его сердце экране. Если его не станет, не станет и её. Решено. Нет жизни там, где нет воздуха.
Дети сейчас вместе с её мамой на даче, и она может сидеть здесь сколько угодно. Дети… Их двое детей останутся сиротами… Горько! Но у них есть две бабушки, два деда и маленькая тётя, по возрасту больше подходящая в сёстры. Родственники все её и детей, а у него – никого. Так, одна полузнакомая тётка в далёком Екатеринбурге. Но он сошёлся с её роднёй даже ближе, чем она.
И вот… Он предупреждал. Он предупреждал с самой первой встречи, как мало дорожит своей жизнью. И вот… Но он всегда говорил об этом с улыбкой, дурачок, по-настоящему он тревожился только за неё… и за людей вокруг.
Эта блондинка, дрожащей рукой ерошащая несуразное волнистое каре длиной до середины шеи, уже потеряла одного дорогого человека. Это было давно. С тех пор у них с мужем традиция: каждый год в конце июля он нарезает цветущего чертополоха, и они идут на кладбище, и там он кладёт эти своеобразные цветы на Ванечкину могилу, а она оплакивает столь дорогого, столь рано ушедшего человека. Эх, Ванечка, до традиций ли нам теперь?
Тогда-то, когда погиб Ванечка, её сердце и вцепилось мёртвой хваткой в мужчину, лежащего сейчас перед ней на больничной койке, и не отпустило до сих пор, не желает отпускать и теперь, не отпустит никогда. Тогда, в первую встречу, она заливала его, своего будущего мужа, слезами, он называл её тучкой, плаксой. Позже, когда она родила мальчика, он передал ей через маму огромный букет с запиской: «Люблю. Обоих». Когда она родила ему дочку, такую теперь похожую на него, худенькую болезненную девочку с серыми глазами и тёмными кудряшками, он нёс их обеих из роддома до машины на руках, и другие женщины завидовали ей. Он вообще завидный мужик, её муж. Три пары железных башмаков стопчешь, не найдёшь такого. Как же страшно видеть дочь, если он умрёт! Теперь видеть дочь всё равно, что терпеть соль, проникающую в рану, разъедающую рану, раздирающую рану.
Какой-то человек, кажется, оперуполномоченный, тихо объяснял ей в коридоре больницы по дороге сюда, что её муж, адвокат, представлявший в суде потерпевшего по делу известной московской преступной группировки, орудовавшей ещё в девяностых годах, ехал в одной машине с клиентом по набережной Москвы-реки, когда у светофора было совершено вооружённое нападение. Видимо, преступники выехали с боковой улицы и обстреляли машину потерпевшего на повороте, пока он остановился на красный сигнал. В подробностях ещё предстояло разбираться. Клиент убит на месте, а адвокату послано шесть пуль, четыре из которых достигли цели.