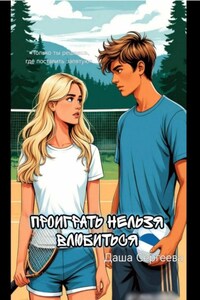© Трофимов С. В., текст, 2025
© «Геликон Плюс», макет, 2025
Каждый церковник знаком с историями о расстригах, в которых образ последних, как назидательное правило, подаётся в значительной мере расчеловеченным. Но что, если предположить, что в жизни какого-то расстриги Церковь была единственной любовью, и утрата возможности служить ей не стала для него освобождением от однажды принесённых обетов? В этом художественном произведении я попытался исследовать путь церковнослужителя, оставшегося христианином и вне профессиональных обстоятельств.
Совпадения случайны.
Ст. Т.
Он шёл по длинному холодному коридору, лишённому света и, казалось, воздуха. Гнилая сырость, вдыхаясь, распирала лёгкие, которые то и дело намеревались взорваться. Глаза что-то видели, но разум не желал познавать зримое, оно было не столь важно. Напряжение нарастало изнутри. Не из-за разрывающихся лёгких – от страха, который обжигал сердце. Он дрожал. В какой-то миг темень иссякла: серое небо без солнца, сильный ветер. Жидкие волосы освободились из косы и развевались, послушные солёному ветру. «Я остриг их, – вспомнил он. – У меня больше нет волос». Вокруг него рассыпались опавшие локоны. Он видел, как они зашевелились, закишели. Черви. Поёжившись на обдуваемом камне, они истлели. Он оглянулся. Перед ним стояла старуха. «Почему ты в платье?» Она спросила это с ухмылкой. Или, может, это был не вопрос, а упрёк? Или просто бессмысленный возглас? Он молчал. Лицо старухи стало тлеть. Она смотрела на него пристально, как никто и никогда ни на кого не смотрел. Чего она хотела? Она осуждала его? Жалела? Пронзительный, пунктиром отдающий в мозгу звук врезался в глаза. Будто, истязаемые колючей проволокой, они заболели. Рука нащупала мобильный телефон.
Привычным движением большого пальца отец Глеб отключил будильник. Ему было плохо. Невыносимая боль начиналась в глазах, в самой зенице, и, ширясь, отдавала в мозг ударами стального молота с неплоским, зубчатым бойком.
«Нужно вставать на молитву, дочитывать правило перед литургией. Скоро явится Варлаам, будет ворчать и клясть весь свет. Надо вставать».
На проскомидии отец усердно поминал всех, кого знал. Когда синодик открылся на странице отца Варлаама, Глеб вздохнул.
«Его с нами больше нет. Он больше не бухтит и не клянёт по утрам. Надеюсь, там ему хорошо».
Ум пришёл наконец в ясность. После службы батюшка, еле стоя на ногах, взял какую-то икону, чтобы занять руки и защититься от прихожанок, жаждущих благословения. Надвинув на глаза скуфью, сердито, он пошёл прочь. Во дворе разгружали фуру с церковным товаром. Крытый кузов загородил проход в административный корпус собора. Сновали работники. Ещё чуть-чуть – и его никто не остановит. Сейчас он выпьет свою таблетку и боль, возможно, немного поутихнет. Сегодня он наконец попадёт домой, увидит жену и детей. Как редко они видятся! Мимо окна наместника Глеб проскочил, казалось, незамеченным, хотя сложно было предугадать, в каком из игуменских окон хозяин развлекается подглядыванием в эту минуту: обе башни, в двух концах двора, принадлежали его высокопреподобию. «Скорее бы его уже сотворили епископом и отправили подальше». Желанная дверь была близка, когда из-за фуры показался небольшой человек. Всё пропало.
– Благословите, владыка… – простонал священник вполовину согнувшись, чтобы поцеловать небрежно кинутую руку.
– Так, не болтай. Надо разгружать, – владыка посмотрел на икону в руках иерея, – поставь и помогай.
Возражать не приходилось. Такое умело практиковал только Варлаам. У отца Глеба были обязанности – официальные и бесконечные, в которых ему никто не помогал. С ними он управлялся блестяще. Всё работало, как немецкие часы – без перебоев и неточностей. Правда, это не мешало навешивать на него всё большие заботы: дома отца успевали увидеть, только если он ломал ногу, чему семья была безмерно рада. Больничные он проводил большей частью в стационаре, и они нравились только ему. Там он отдыхал. Даже при температуре 39,9 там ему нравилось больше, чем в коллективе.