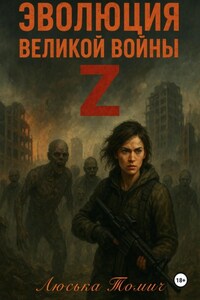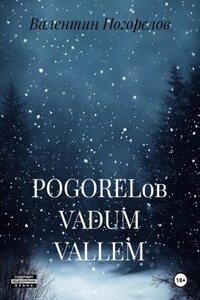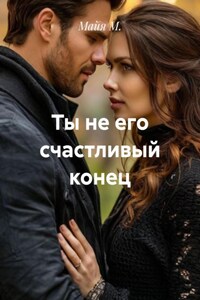Пролог: Пыль на струнах и запах лекарств
Квартира. Не дом. Не жилище. Квартира. Капсула времени, застрявшая где-то на излете советской эпохи, пропитавшаяся потом отчаяния и лекарственным смрадом последних лет. Сначала мамин – сладковатый и жуткий запах онкологии, химии и тщетной надежды, въевшийся в стены за те два года агонии. Потом – его. Два разных ада, слившихся в один непрерывный кошмар. Три комнаты, но дышишь только в одной – той, что побольше, превращенной в лазарет. Воздух здесь густой, вязкий. Он не циркулирует. Он застаивается. В нем плавают:
1. Сладковато-гнилостный дух болезни: Тяжелый, как влажное одеяло. Это смесь тления плоти, которую уже не спасти, дешевых мазей от пролежней с их химической ванилью, и чего-то еще… чего-то глубоко органического и печального – запах угасания.
2. Резкий уксусный укол дезинфектанта: Анна вытирает поверхности до блеска, до стертости рисунка на старой клеенке, покрывающей тумбочку. Борется с невидимым врагом. Но запах хлорки и спирта лишь подчеркивает основную ноту, делает ее еще невыносимее. Это запах войны, которую она проигрывает с каждым днем.
3. Пыль. Она везде. Тонкий, вечный налет серости на потемневших от времени плинтусах, на раме окна, которое почти не открывается (боязнь сквозняка для него – смерти подобна), на старой этажерке с потрепанными книгами по сопромату и теоретической механике – памятника ушедшей жизни Михаила. Пыль лезет в нос, скрипит на зубах, оседает на струнах скрипки в углу, как саван на надежде.
4. Запах дешевой еды: Того, что можно быстро сварить, разогреть, впихнуть в себя между сменами и перевязками.
Смена подгузника/пеленки: – Пап, сейчас переоденемся, – голос Анны звучал механически-ласково, как заученная молитва.
Он не ответил. Только глаза, огромные в запавших глазницах, метнулись к ней, потом быстро отвелись в сторону. Стыд. Вечный, жгучий стыд. Он был инженером. Человеком, чьи руки проектировали мосты. А теперь он лежал, как младенец, в луже собственных отходов, не в силах даже пошевелиться, чтобы облегчить ей задачу.
Анна откинула одеяло. Тяжелый, кисло-аммиачный запах ударил сильнее. Она стиснула зубы. Не дышать. Не думать. Руки в тонких латексных перчатках (экономия – стирала и сушила их по пять раз) действовали быстро, выверено, как у хирурга на поле боя. Сняла испачканную впитывающую прокладку, свернула ее липкой стороной внутрь, бросила в специальный герметичный пакет под кроватью. Запах на миг усилился, прорвавшись наружу. Михаил сжал веки, губы его задрожали. Беззвучное «прости».
– Ничего, пап, ничего страшного, – бормотала Анна, протирая его иссохшую кожу теплой водой с мягким мылом. Губка скользила по костлявым бедрам, ягодицам, промежности. Кожа была тонкой, как папиросная бумага, местами – красноватой, раздраженной. Каждое прикосновение Анна сверяла с мысленной картой его тела: Здесь пятно вчера было. Не увеличилось? А здесь? О, Боже, кажется, новое покраснение на крестце? Пролежень? Начало? Страх холодной иглой кольнул под ложечкой. Пролежни – это гангрена, сепсис, мучительная смерть. Она знала. Читала форумы. Каждое утро начиналось с этого осмотра – поиска новых пятен, признаков некроза под тонким покровом.
Она нанесла крем с цинком – густой, белый, с резким лекарственным запахом, который теперь преследовал ее даже во сне. Потом – новую прокладку, поправила памперс (самые дешевые, жесткие, иногда натирали). Каждое движение требовало усилия: повернуть его на бок, поддерживая голову, чтобы не упал, подложить чистую пеленку, вернуть на спину. Его тело было невесомым и одновременно неподъемным – мертвый груз костей и кожи. Позвоночник выпирал буграми под ее ладонью. Каждый раз, переворачивая его, она боялась услышать хруст – хрупких ребер, позвонков. Боялась причинить боль. И видела, как он напрягается, пытаясь хоть чуть-чуть помочь, но его мышцы не слушались, только мелко дрожали от бесполезного усилия.