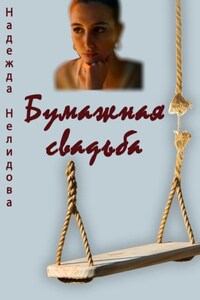Зеленые стены разъедали истощённый гипоксией мозг. Лада закрыла глаза, но легче не стало.
– Эй, – кто-то тряс её за плечо. – Живая?
Ещё полгода назад это могло показаться глупой шуткой, но какие шутки, когда смертельный исход среди заболевших коронавирусом уже исчислялся сотнями, а может и тысячами. Она плохо понимала, сколько прошло времени с того момента, как её увезла «Скорая». Дома остался умирающего от рака муж. Лада вообще мало что понимала сейчас. Никогда в своей жизни ничего ужаснее она не чувствовала. Разве мы задумываемся над тем, какое это счастье – просто дышать. Просто дышать. Мы этого не замечаем.
Она открыла глаза.
– Давай, держись за меня, я пересажу тебя в кресло.
Лада бросила беглый взгляд на сумку у стены, там всё, что она успела собрать, и на лежащий на коленях прибор. Он позволял дышать, и если оставить сумку она могла, то этот ящичек с трубками был для неё спасением. Лада прижала одной рукой прибор к животу, другой вцепилась в костюм санитара. Он пересадил её в кресло и покатил по коридору.
«Я инвалид», – горько подумала Лада, слушая гулкий стук кресла о кафель.
Когда они приблизились к стеклянной, разделяющей коридор на сектора перегородке, из внутреннего отделения выкатилась металлическая тележка. Два одинаковых, похожих на инопланетян санитара, упакованных в герметичные белые костюмы, резко развернули каталку, и рука того, кто на ней лежал, безжизненно и как-то обреченно вывалилась и повисла. Лада сразу определила, что рука женская, хотя на ней не было маникюра, а сморщенная временем кожа была усеяна пигментными пятнами. Пока тележка приближалась, Лада всматривалась в руку, словно пыталась понять – жив тот, кто там или нет. Каталка наезжала, дребезжала, грохотала, и когда поравнялась с ней, Лада, вытянув шею, заглянула на тележку.
– Ида… – прохрипела осипшим голосом.
«Идка, Идка, Идка» – сливаясь с грохотом неслось вслед удаляющимся санитарам до тех пор, пока кресло не скрылось за стеклянной дверью.
– Потому что ты дура! – стукнув по столу банкой сгущённого молока, гаркнула низким сопрано Одиллия Ивановна.
Из раскрытой сумки вкусно пахло копчёностями, вызывая у Иды обильное слюноотделение. Бросив оскорбление, тётка выудила из «рога изобилия» палку сырокопчёной колбасы и положила рядом со сгущёнкой.
– Зачем ты так, Дилля? – тихо, словно соглашаясь, пролепетала мать, поглаживая сухой ладонью накрахмаленную скатерть.
– Скажешь, неправа? – Тётка снова опустила руку в сумку и замерла. Её гладкое, будто вощёное, лицо выжидательно застыло.
Ида затаила дыхание. Казалось, от того согласится мать или возмутится, сейчас зависело достанет тётя Дилля очередную вкусняшку или застегнёт сумку и удалится, оставив Иду с риском лопнуть от любопытства и досады. В душе боролись чувства: с одной стороны – жалости и обиды за мать, с другой – жгучего желания поскорей отведать городские вкусности.
Одиллия Ивановна работала в сфере общепита. Нечастые наезды к сестре компенсировались более чем щедрыми, а главное дефицитными гостинцами. Мать в шутку называла тётку «Обилия Ивановна». В ответ тётка, апеллируя к своей устроенности и «умению жить», считала, что это даёт ей право поучать и даже, пусть и беззлобно, оскорблять старшую сестру.
Не дождавшись ответа, тётя Дилля извлекла на свет коробку «Птичьего молока».
– Молчишь? Значит согласна. – Тётка посмотрела на Иду и снова на сестру. – Вот скажи мне, куда ты их столько нарожала? Зачем тебе такой выводок? Зачем, Детта?
В ответ мать лишь вздохнула. Не горько. Просто она любила вздыхать, без всякой причины. Привычка.