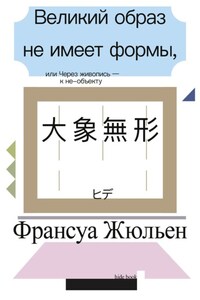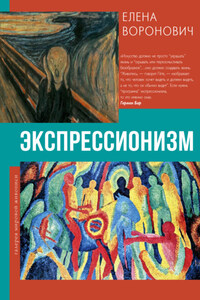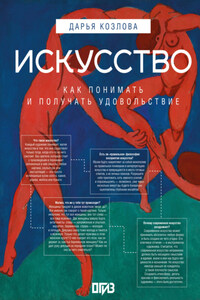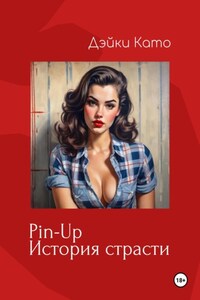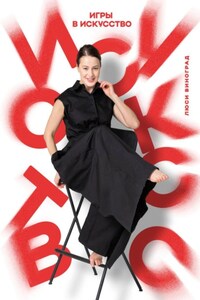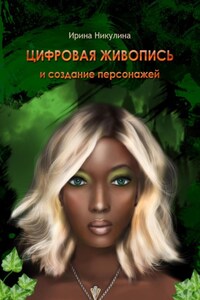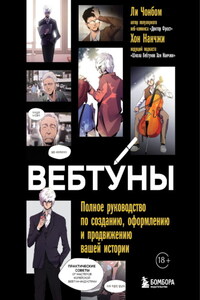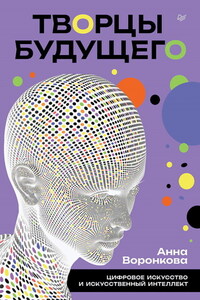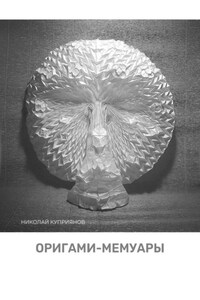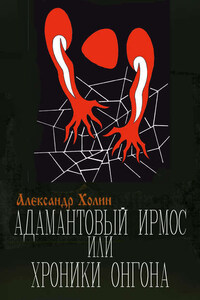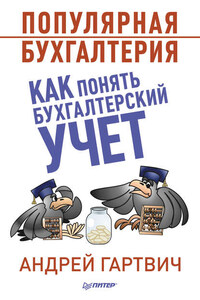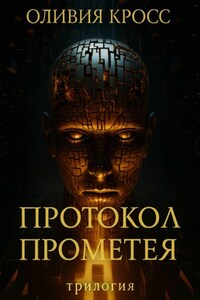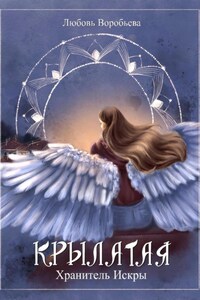Нижеследующий опыт продиктован поиском [того], что в принципе не может быть найдено и не позволяет себя постичь. Его объектом является не-объект – нечто слишком неясное-туманное-рассеянно-расплывчатое-мимолетное-смутное, чтобы его можно было обездвижить и изолировать; нечто погружающееся в пучину, не ведающую различий, и, следовательно, неопределимое и непредставимое, заведомо лишенное состоятельности некоего в-себе, неспособное выстроиться в качестве «бытия» и «предстать» в качестве Gegenstand[1] – обозначив свои контуры – перед Оком или Духом. Нечто, с чем мы постоянно сталкиваемся на опыте, возвращаясь к беспредельности извечного, но что поспешили забросить наука и философия, преданные логической трактовке вещей. Им не терпится выстроить некое «это», доступное мысленной манипуляции, чтобы затем ответить с его помощью на вопрос: «Что это?»
К этим необъективируемым «недрам вещей», следы которых, с тех пор как наука и философия их забросили, очень трудно восстановить в тенетах великого европейского наречия, я попробую подступиться здесь через обширный корпус критической литературы, посвященный китайскими эрудитами на протяжении около двух тысячелетий живописи. Ведь призвание живописи – изобразить неизмеримое с помощью линии, Недра – с помощью формы; и если китайские эрудиты могли одновременно создавать и осмыслять живопись, то потому, что они опирались на осмысление континуума жизни и «пути», которому этот континуум имманентен, – пути актуализирующегося и растворяющегося: я имею в виду дао, дао даосов. Таким образом, запасшись терпением и пустившись в путь по древним «Искусствам живописи», мы поддаемся искушению разойтись как с онтологическим статусом формы, сочетающейся с материей и ее оформляющей, так и с логической уверенностью в определенности, она же – эстетическое, как принято говорить, притязание на представление. И поначалу мелкие, смутно угадываемые подвижки, внезапно расшатывающие фундамент нашего мышления, постепенно, углубляясь и ветвясь, приоткроют в проведенных ими трещинах другой способ предаваться мысли, уже не основанный ни на Бытии, ни на Боге. Согласно ему – наперекор привычному для нас ожиданию раскрытия Истины в некоей окончательной и выстраивающей перспективу ясности, – прояснение вещей не отрывает их от окружения, сокрытие и раскрытие содействуют, сменяя друг друга, как захват и выпуск, по образцу великого процесса существования.
Живопись, образ которой создают для нас китайские трактаты, делает этот другой способ мысли явственно ощутимым, извлекая из его совершенно особого сцепления действия-эффекты, которые достаточно рассмотреть, чтобы открыться иному способу мысли, насладиться им и его разделить.
Решив, таким образом, систематически провести указанное расхождение, я вовсе не хочу строить некие отдельные миры и уделять Китаю роль «другого», освобождающую или компенсирующую, но всегда в той или иной степени подозрительную. Скорее, моя цель – найти повод и способ вернуться к неосмысленному. Ведь, как мы знаем, вопрос, который встает перед философией, сводится прежде всего к поиску первоначальной зацепки: как подобраться к тому, исходя из чего мы мыслим, к верховьям, к преддверию, к фундаменту, и понять, что́ мы, в соответствии с нашим фундаментом, не мыслим? А не является ли самым трудным отступить в своем умозрении назад? Решив пойти через Китай и тем самым отрешиться от привычных для нас сцеплений, мы, таким образом, прокладываем новый маршрут, новый путь в мысли.