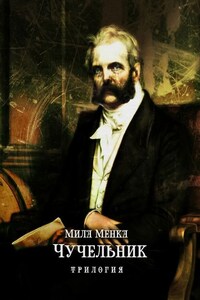Небо… Бескрайняя просинь, уводящая в далёкую даль, в ту, что нельзя охватить ни взглядом, ни мыслью. Как притягательна эта лепь, рождённая за тысячу эпох до появления человечества; во времена безвременья – духоправящую эру, уводящую в скрытый Мир, в тайнопись нашей матери Земли, праматери всего сущего на планете.
Небесная белизна – молоко, что пролилось из вымени белобокой коровы. Кто знает для чего пришла эта корова и что несёт с собой, но сияние её глаз, я часто вижу на рассвете, когда трава вскормленная росой отдаёт дань, прикасаясь к её пурпурным зрачкам. А может, кто-то гонит эту корову на лилеющие луга жизни, где зарождается свет, в оторопи тьмы, в купели очищения души.
Небо несёт исцеление тем, кто готов к нему, кто чувствует свет подкожно, фибрами. Как мало дано человеку и как много дано небесам, что стелятся над нашими головами, пеленая в свои молочные вязи. Там ответы на вопросы, не подвластные ни времени, ни пространству; бытиё бытия, первооснова рода.
Тропа духовного мира. Рождение
В крике рождается жизнь, так говорила бабка-повитуха, при моём рождении. А кричал я истошно, не переставая, но не от боли при появлении на свет, а от самого света, который увидел перед собой – ведь дарован этому Миру был в поле.
Тётя Маланья (сестра матери), убежала за повитухой в деревню, пока мать корчилась от боли и стонов. Родила меня мама перед обедней, обессиленная и почти бесчувственная еле смогла меня прижать к себе, а я дрожал и вопил, в кровавой плёнке, с кнутовой пуповиной, которая мешала моим ножкам и телу, но не глазам, я взирал на зеленеющее море и тонул в её ладной красоте.
– Родила, господи, родила! – задыхаясь, кричала Маланья.
А за ней, прихрамывая, спешила Сычиха (повитуха), сколько ей было лет – не знал, пожалуй, никто в нашей деревне, но говаривали, что ещё леса были малые, а реки спящие, а она уже жила и помогала роженицам, да и простому люду. А с виду больше полувека и не дать было. Сычиха была очень щуплой и поджарой, с небольшой сединой на висках, но сами волосы хранили смоль – свет ночи, как говаривал люд. Взгляд её зелёных глаз, пугал многих, но не меня, был в них свет, свет солнечной длани, а не болотная мёртвая топь.
Бабка отрезала кнутообразную веревку (притом сделала это так проворно и легко, что я этого не заметил), отсоединив тем самым меня от материнской искры, впустив новую искру, пламень праматерей самой земли.
Затем смазала место пупа вязкой желтообразной мазью и принялась что-то нашёптывать, прислоняя ко мне веточку берёзы, оберезевая луговой стынью. И было в её речах что-то знакомое, но забытое, забытое до рождения, но сохранившееся в глубинах духа. И это что-то окрыляло, наполняло светом и ладом, мощью идущей от её взгляда.
Мою мать, в миру Ольгу, Сычиха напоила настойкой, не знаю на чём она наёживалась, но не пролетели ещё облака над моей головой и трети пути к лесу, а мама уже пришла в себя и целовала мне ручки и ножки, омытые ключевой водой, за которой в лес бегала Маланья.
– Как назовёшь? – с необузданным интересом спросила Сычиха.
– Бабушка, подскажи, я с природой и светом не так близка, как ты, тебе ведомы многие знанья.
– Назови Светозорем, у него искра Велеса в сердце, а душа небесная, посланная в Мир на поиски, на ответы тайных вопросов, – молвила бабка, устремив взгляд вдаль, за синеющий горизонт, где теряется время и обретается суть.
– Пусть будет так, с небесами не спорят, – кивнула в согласие Ольга.
– Помни только, путь у Светозоря большой, много дано ему познать в жизни, многому научиться. Свет ему будет братом, а тьма сестрой; хворь и напасть будут обходить его стороной, – вздохнула Сычиха и продолжила, – но есть сила, неподвластная духу, что владеет сердцем и окольцовывает душу, она его может погубить, но может и воскресить. Путь у каждого свой и давно написан, да есть тропы обходные, тропы разные.