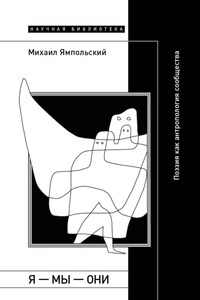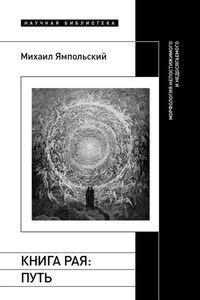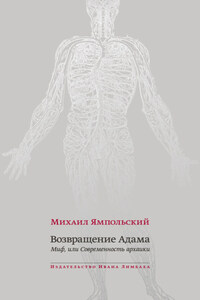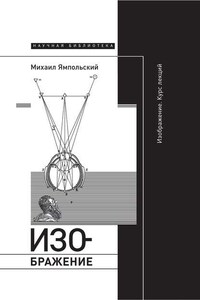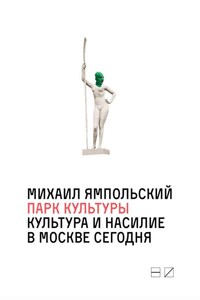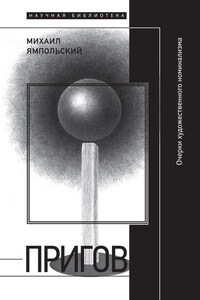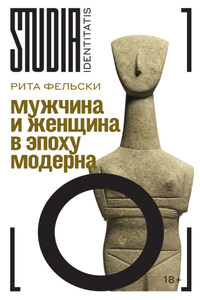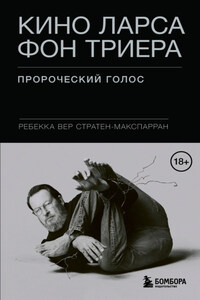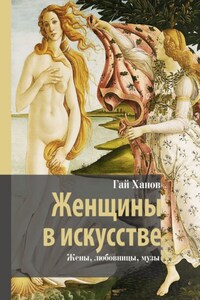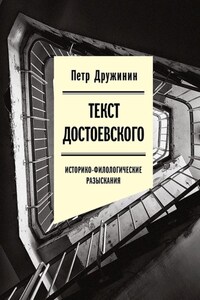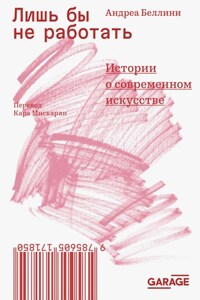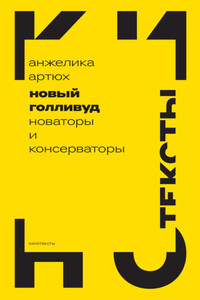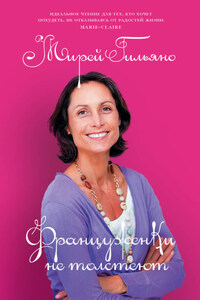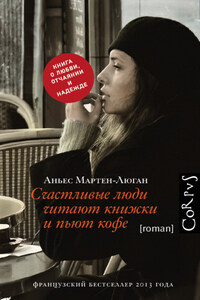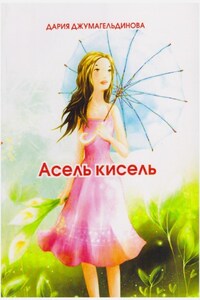1. От поэтики к антропологии
Это книжка о современной поэзии, но написанная с принципиально нефилологической позиции. XX век в исследовании поэзии в основном ориентировался на лингвистическую филологию и полагал главным свойством поэзии освоение особой «поэтической функции» языка, поэтики. Роман Якобсон справедливо замечал: «Уже в 1919 г. можно было смело утверждать, что в России наступила эпоха „небывалого урожая поэтики“…»[1] Поэтическая функция же понимается как обращенность языка на самого себя и безостановочное обнаружение необыкновенного богатства внутренних связей внутри поэтической речи. Так означающее, в обыденной речи отсылающее к означаемому, в стихе вдруг обретает особое значение, и каждый звуковой элемент слова начинает выступать вперед. Тот же Якобсон пишет об этом:
Поэзия подчеркивает конститутивные элементы на всех уровнях языка, начиная с различительных признаков и кончая композицией текста в целом. Связь между означающим и означаемым, существующая на всех уровнях языка, приобретает особенное значение в стихотворном тексте, где интровертивный характер поэтической функции достигает своего апогея. Говоря словами Бодлера, мы видим здесь «сложное и неделимое единство», где все «значимо, взаимосвязано, обратимо, пронизано соответствиями» и где постоянное взаимодействие звука и смысла устанавливает между ними соотношение либо парономастическое и анаграмматическое, либо фигуративное (а иногда звукоподражательное)[2].
Такое понимание поэзии соответствовало тому, что в США получило название language poetry (языковой поэзии). В XXI веке это положение, как мне кажется, стало меняться, и акцент (во всяком случае у некоторых ведущих поэтов) сместился в сторону «неожиданных» вопросов о том, кто говорит, от чьего имени и к кому обращена поэтическая речь. В таком контексте значение приобрела совсем иная лингвистика, чем та, которую Якобсон соотносил с поэтикой. Некоторое ослабление интереса к поэтике, на мой взгляд, происходило из-за глубокой трансформации в ощущении положения человека в мире. Поэтика XX века отражала чувство укорененности поэта и филолога в обществе и природе. Только полностью интегрированный в мир человек может ощущать свою речь как (если использовать выражение Бодлера) «сложное и неделимое единство». Утрата этой укорененности в новом столетии выдвигает на первый план совсем иные вопросы, а именно: кто я, где я, с кем я говорю, где я нахожусь? И, возможно, главный вопрос: как я вписываюсь в сообщество себе подобных? Место сложности и неделимости начинают занимать неопределенность самой инстанции «я» и окружающая ее пустота[3]. В этой книге речь идет о поэзии и сообществе, понимаемом отнюдь не как реальная или мнимая совокупность людей, осознающих свое место в обществе. Так понимаемое сообщество возникает в основном во второй части книги, посвященной Льву Рубинштейну. Под сообществом здесь чаще всего понимается скорее языковая фикция, поскольку язык всегда соотносит наш дискурс с другими. Это скорее «невостребованное», «бездеятельное», выявляющее смертность и одиночество к нему причастных и, как говорил Морис Бланшо, невозможность существования в нем в качестве субъекта. Во многом такое сообщество основано на языке и слове, и, как говорил тот же Бланшо, «сообщество не является редуцированной формой общества, равным образом оно не стремится к общностному слиянию»[4].
На эти экзистенциальные вопросы не могут ответить ни поэтика, ни лингвистика. Одна из первых и неожиданных попыток связать сообщество с искусством и эстетикой была предпринята Кантом, который утверждал, что, хотя всякий чувственно данный объект нашего созерцания единичен, эстетическое суждение о нем универсально и апеллирует к тому, что он называл «всеобщим голосом»: