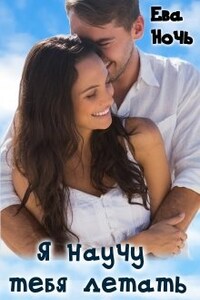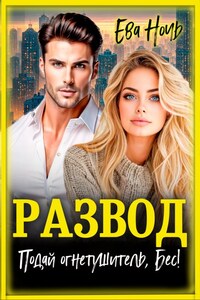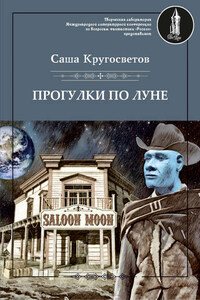Неприятности валятся словно лавина с
высоких гор. Стоит лишь одному крохотному недоразумению затесаться
в твою жизнь, как тут же вырастают проблемищи вселенского
масштаба.
Всё началось с вызова к директору на
«ковёр».
– Никитина? – голос у Льва
Моисеевича как из бочки – глухой, но рокочущий. Зевс-громовержец –
так зовут его в народе. – Зайдите ко мне!
Не подумайте ничего такого. Я не
какая-то там нерадивая ученица – отнюдь. Угораздило меня окончить
педагогический институт и стать учительницей русского языка и
литературы. Сеять, так сказать, разумное, доброе и вечное в
благодатную почву мягких и светлых детских душ.
Внутренности сжимаются в комок: Лев
Моисеевич по пустякам не дёргает. И если уж вызывает к себе, и
взгляд карих глаз у него пронзительно-острый, значит случилось
что-то глобальное.
Пока я плетусь медленно к кабинету
на полусогнутых ногах, лихорадочно перебираю, где могла накосячить.
Журналы вроде заполнила, легендарный 6-А, кажется, нигде не
отличился, всё тихо. Классные часы проводятся, полы в классе
моются. Хотя какие полы… из-за такой ерунды на эшафот в святую
святых не приглашают.
– Вот что, Никитина, – Лев Моисеевич
стоит, упираясь обеими руками в стол, отчего лицо его – почти на
уровне с моим. Ну, а я стою навытяжку, как положено: живот втянут,
руки по швам, сердце в пятках, – вы где работаете?
Всем известно: директор любит
задавать вопросы. Главное – отвечать быстро и чётко, желательно не
задумываясь. Материал должен отскакивать от зубов. У него и на
уроках так отвечают. Кто мямлит, тот остаётся после уроков.
Учить.
– В гимназии! – бодро чеканю я,
лихорадочно соображая, за что мне сие.
– Неверный ответ, Варвара Андреевна,
– сверлит меня суровым взглядом Лев Моисеевич. – Не в гимназии, а в
образцово-показательной гимназии!
У него нос на губу налезает. А ещё
брови белые клочками. И причёска Энштейновская. То есть, это Льву
Моисеевичу так хочется: там, где у знаменитого учёного волосы
кучерявились, у директора лысина. Тотальная. И вот эти седые космы
нимбом вокруг неё – просто безобразие. Так и хочется то ли дёрнуть,
то ли причесать. А лучше всего – побрить. Налысо. Ну, или
коротенько подстричь на худой конец. Под троечку. Ой, что-то я не о
том думаю…
Директор многозначительно поднимает
узловатый палец и, я так понимаю, мне надо изобразить
подобострастие. Ну, конечно. Футы-нуты. А меня с улицы взяли, от
очистков очистили.
Он что-то ещё вещает возвышенно, а я
делаю вид, что слушаю.
– Что у вас с Драконовым? – бабахает
он неожиданно и оглушительно. А? Кто здесь? Никого нет дома! Нет
меня, нет!
Зелёная тоска заливает с ног до
головы. Я, наверное, тоже зеленею под пристально-суровым взором
Зевса-громовержца.
– А что у меня с ним может быть,
простите? – осторожно пытаюсь блеять я, но Льву Моисеевичу плевать
на остатки моего достоинства.
– У вас к мальчику стойкая
неприязнь. Вы предвзято относитесь к ребёнку. Вчера опять приходила
его мать. Грозилась, что в следующий раз придёт отец. Я специально
посмотрел журнал 6-А. Там же проб негде ставить от ваших двоек! Вы
затретировали ученика, Варвара Андреевна, вот что я вам скажу!
Я бы могла возразить. Кто ещё кого.
И мать этого рыжего бесстыдника могла бы ко мне прийти, а не
кабинет директора штурмовать. Между прочим, я с этого года их
классный руководитель. И, между прочим, кое-кто даже на
установочное родительское собрание не соизволил снизойти.
– В общем, подумайте, Варвара
Андреевна, – голос недоэнштейна скатывается в мягкую угрозу. – Если
встанет вопрос вы или чудный ребёнок Ваня Драконов, вы сами знаете,
кто закроет дверь гимназии с обратной стороны.
Мне осталось только кивнуть. Видимо,
карьера моя стремительно шла под откос: идти на поводу у мелкого
интригана я не собиралась. Впору сушить сухари и искать другую
работу, пока богатые, именитые родители этого рыжего монстра
кислород не перекрыли.