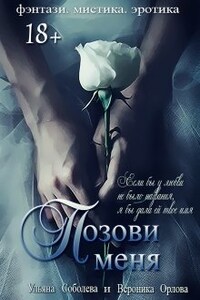- Ах ты грёбаный ублюдок, - сильный
удар мокрой, вонючей после мытья общественного туалета тряпкой по
лицу, - мелкий сукин сын, - ещё один удар, на этот раз – огромной
лапой с широко расставленными жирными пальцами по щеке, и у
мальчика невольно выступают слёзы на глазах. Он прикусывает нижнюю
губу, чтобы не разрыдаться, и медленно отходит назад.
- Куда это ты намылился? Думаешь,
сбежать?
Отец…даже в мыслях Натан поперхнулся
этим словом…он надвигается на него, схватив с пола ведро с водой, и
ребёнок, испуганно качая головой, отступает.
- Иди сюда, крысёныш, я тебя научу
смотреть под ноги.
Мужчина снова размахнулся, и мальчик
всё же побежал, на ходу глотая слёзы. Сзади доносились проклятия
вперемешку с бульканьем. Натан представил, как разлетается слюна в
стороны, как трясется двойной подбородок его отца. А потом – резкая
боль в голове, и ребенок поскользнулся и упал, с каким-то
облегчением понимая, что исчезают звуки пьяного голоса,
перекрываемые звоном разбитого стекла. Ублюдок всё же метнул в него
уцелевшими остатками бутылки, которую мальчик нечаянно разбил,
поскользнувшись на мокром полу, и, если сильно повезёт, Натан
успеет отключиться до того, как тот добежит до него, чтобы побить в
наказание за неосторожность.
***
Он не хотел просыпаться. Он отчаянно
молился одновременно Богу и Санта Клаусу, в которых запрещал себе
не верить, обещая им вести себя хорошо и ходить по воскресеньям в
церковь. Пусть даже она располагалась очень далеко от его дома. Не
его. Не так. От дома, в котором он жил. Он лихорадочно шевелил
губами, произнося слова, которые и сам с трудом понимал, сложив
маленькие ладошки вместе и глядя глазами, полными надежды, на
обшарпанную, всю в тёмных подтёках стену муниципальной больницы, в
которую его привезли. Смотрел на массивный чёрный деревянный крест,
являвшийся единственным украшением на стене и молился. О чём?
Молился о том, чтобы больше никогда-никогда не увидеть деспота,
фамилию которого он носил, и его безликую молчаливую жену, скорее
походившую на тень, чем на живого человека. Она боялась мужа, как
боятся бешеную собаку, у которой в глазах уже появилась жажда
плоти, но пока ещё не выступила пена на губах. Может быть, поэтому
Натан и перестал ощущать ту обиду, которая поначалу сжигала его
изнутри, пока смотрел заплывшими от побоев глазами на осунувшуюся
сгорбленную фигуру матери, безропотно стоявшую у самой двери, пока
отец отвешивал одну за другой пощёчины или, матерясь через слово,
пинал его, лежащего на полу, носками тяжёлых ботинок.
Иногда ловил себя на том, что ему…жаль её. Да, ему избитому, со
сломанным ребром и свежими отметинами от ожогов сигаретой на тощей
спине, до боли было жалко женщину, которая будто потеряла себя,
позволила стереть себя как личность мужу. В такие минуты Натан до
остервенения желал только одного – чтобы они, наконец, избавились
от того, кто заставлял страдать его и мать. А порой мальчику
казалось, что больнее было видеть синяки на теле и лице Джени, чем
чувствовать их на своем. Правда, со временем это ощущение стало
медленно исчезать. Со временем ребенок перестал вообще воспринимать
её как родного человека и начал относиться как к чужой женщине.
Женщине своего мучителя. Не сразу, нет. Всё же детям присуще любить
маму особой любовью. Той, которая поглощает всё существо ребенка.
Той, которая готова оправдать и бутылку в руках самого близкого
человека, и использованный шприц, валяющийся возле детской кровати,
и частые побои «в воспитательных целях». Детская любовь абсолютна и
не признаёт полутонов…до тех пор, пока ребенок вдруг не начинает
сравнивать. И именно тогда его мир начинает рушиться. Оказывается
самым обыкновенным мыльным пузырём, который лопается от первого же
соприкосновения с реальностью.