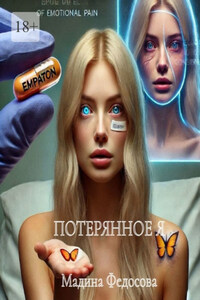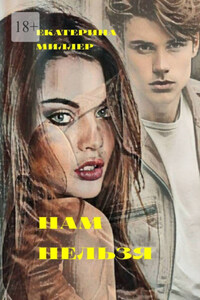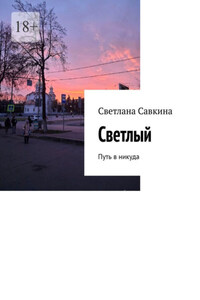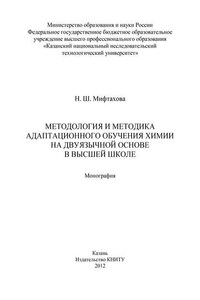Глава 1.
«Прощание славянки»
Шел уже второй месяц войны.
На станции с минуты на минуту ожидали прибытия эшелона. Нельзя было понять, кого на перроне было больше – призванных на военную службу или провожающих. Жены, матери, сестры со слезами на глазах, жадно всматриваясь в глаза любимых, говорили им что-то быстро и горячо, словно старались в эти последние минуты перед расставанием высказать им все слова любви, искренние пожелания возвращения домой живыми и здоровыми. Конечно, они понимали, что далеко не все вернутся с полей этой проклятой войны, но каждая из них лелеяла надежду, что именно ее любимого, именно ее сыночка, именно ее братика обойдет судьба.
Во всеобщий гул толпы вдруг вмешались задорные аккорды тальянки. Песня про разгоревшийся утюг из «Веселых ребят» резко сменилась «Барыней», и призывники, освободив площадку на перроне, кинулись вприсядку. Состав еще не подали, но ни провожающие, ни мобилизованные ни секунды не переживали от этой вынужденной задержки, стараясь хоть на мгновение подольше побыть с любимыми, хоть еще секундочку подержать их в своих горячих объятиях.
Тимофей Ганчуков отошел чуть в сторонку, подальше от слез провожающих. Его никто не провожал здесь. Он попрощался со своей женой у ворот дома, торопливо поцеловав ее в мокрые щеки, обнял на прощание и сказал скорее дежурное: «До свиданья, милая, я непременно вернусь!». Прижал к груди маленькую дочурку. Прыгнул в кузов нетерпеливо ожидающей его полуторки. Лишь в последний момент Лизонька, как ласково называл Тимофей свою суженую, сунула ему в руки сверток с нехитрым провиантом в дорогу.
Трясясь на кочках проселочной дороги, он с болью в сердце смотрел, как за пыльной завесой исчезали силуэты дорогих ему людей.
Сбросив пелену с глаз, Тимофей грузно опустился на скамейку у торца здания железнодорожной станции. Мысленный взор снова вырвал из памяти одиноко стоящую на дороге Лизоньку. Она снова украдкой утирала слезу уголком белого платочка в горошек и гладила головку прижавшейся к ней дочурки.
Тимофей развернул сверток, достал ломоть хлеба и бутылку молока. Приступив к скромной трапезе, он не сразу заметил, как неспешно, опираясь на клюку, шаркая и прихрамывая, подошла к нему какая-то старая женщина. Она была одета в черное, похожее на балахон, платье до земли. Ее лицо было столь морщинистым, что больше походило на прошлогоднюю картофелину, чем на лицо.
– Разрешишь присесть возле тебя, солдатик?
– О! Конечно, садитесь, бабушка. – Тимофей торопливо подвинулся к краю скамьи.
– Спасибо, милый. Ноги совсем не ходят.
Он отломил половину ломтя хлеба, протянул его старушке:
– Вот, бабушка, угощайтесь.
– Что ты, милок, тебе вон на войну ехать. Сил набираться надо. А мне-то что! Я уж как-нибудь.
– Берите, бабуля, берите! Я человек казенный теперь. Меня накормят. А вы здесь останетесь. Небось, и не ели с утра? Ну вот видите. Берите, говорю. Я голодным не останусь.
– Ну что ж, спасибо, милок. – Старушка осторожно приняла краюху хлеба.
Тимофей достал из своего вещмешка кружку, налил молока, протянул ее бабушке.
– Жена есть? Дети?
– Да, в тридцать восьмом поженились с Лизонькой. Избу поставил. Да недолго пожить в ней пришлось. Отец в финскую погиб, матушка слегла после этого. Вот живем все вместе в отцовом доме. Любили мы с Лизаветой моей друг друга так, что все три года наглядеться не могли. В прошлом году Галенька родилась. Увижу ли их еще… – Тимофей с грустью опустил глаза. В горле появился комок. Аппетита не было, и он убрал остатки своего провианта в мешок.