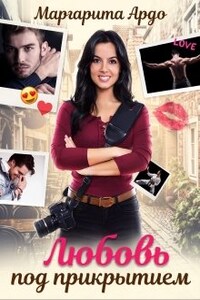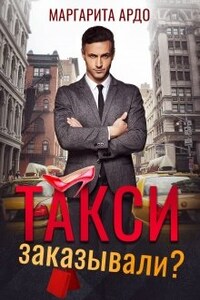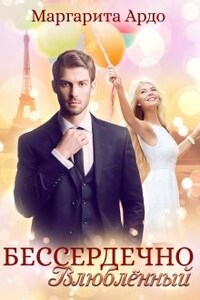У меня были бы все шансы стать послушной куклой или тайной
истеричкой, если бы я росла с младенчества в пансионе госпожи
Тодлер, как другие девочки. Но мне повезло: до десяти лет меня
холили родители. Впрочем, Керри Сьон говорит, что наоборот, это
хуже: другие девочки не скучают по кружевным платьям, сдобным
булкам и варенью в вазочках, по прогулкам на пони и весёлому папе –
большинство воспитанниц мадам Тодлер не знают, каково это, и
принимают похожий на тюрьму пансион как норму жизни.
Я с Керри Сьон не согласна: лучше тосковать по прекрасному, чем
верить в то, что мир создан серым. И нет, привычка не помогает.
Иначе не стала бы скулить просто так по ночам Эни Могг или грызть
до крови ногти без видимых причин Джинни Вэйр. Или пугающе стонать
во сне, как Марта Хомтер. Приходится гладить её по голове и
нашёптывать мамины песенки.
У нас в спальне на двенадцать персон с зарешеченными окнами и
сырыми матрасами всегда холодно. Во всех спальнях так. Говорят,
лучше для воспитания. Госпожа Тодлер с сёстрами берут под опеку
только девочек, о которых некому стало заботиться, и следит, чтобы
магия в нас не пробудилась, чтобы мы были обыкновенными и удобными
служанками в будущем. Мол, если возникнет магия, нам прямая дорожка
в тёмные кварталы, в резервацию, а то и за решётку похуже.
А я думаю, она просто ненавидит магов. Поэтому «дисциплина, холод,
порядок и ещё раз дисциплина», как говорит наша воспитательница,
выпрашивая деньги на сирот у очередного мецената, – это наши будни
и праздники.
Самый большой праздник, кроме Дня Новой Зари, это как раз приезд
господ из города, попечителей и желающих ими стать. Нам выдают
строгие белые фартуки поверх мышиных платьев, ленты в косы, вручают
на завтрак яблоко и песочное печенье, а в кашу добавляют масла,
молока и мёда.
Обед, увы, праздничным не бывает. Дамы и господа никогда не
остаются дольше, чем на пару часов. Потреплют кого-то по голове,
зададут вопрос, не особо слушая ответ, и после роскошного угощения
в кабинете госпожи Тодлер уезжают с лицами довольными и
благостными, переполняясь ощущением собственной добродетели
настолько, что боятся расплескать, садясь в экипаж. Мадам Тодлер с
сёстрами так перекармливают их гусём с яблоками и просьбами, что
господа из города торопятся сбежать.
Что и говорить, я люблю, когда они приезжают, мне нравятся яблоки и
молочная каша, и я обожаю печенье. И я понимаю господ: сбежать я
тоже хочу, вот только пока некуда. К сожалению, после того, как
родители погибли, а я попала сюда, я ни разу не выезжала в город,
зато скопила пятьдесят монет. Остальные деньги сёстры отобрали. Они
всегда отбирают то, что дают девочкам меценаты и наказывают жёстко,
если пытаться что-то скрыть.
Но я хитрая: отдаю всё, а одну монету прячу в рукав. Ещё папа меня
учил такому фокусу ради забавы. Знал бы он, как пригодятся мне его
смешливые уроки в семнадцать лет. Я отточила мастерство до
совершенства, тренируясь на камешках в саду. Так что спрячу в
потайной кармашек-складку на своём рукаве что угодно, – вы и не
заметите!
* * *
Для нашего приюта я переросток. Других отправляют прислугой и в
четырнадцать, и в пятнадцать, но госпожа Тодлер не хочет меня
отсылать: уж слишком хорошо у меня получается успокаивать наших
девочек. Как у кого истерика, припадок или конвульсии, зовут меня.
Бежать к целителю в посёлок им недосуг.
Почему сёстры не понимают, что можно просто поговорить и приобнять
ласково, для меня загадка. Может, их самих никто не обнимал?
Изредка мне их даже жалко: тяжело просыпаться злым, ходить весь
день злым и даже солнцу весной не улыбаться. Я предпочитаю и в
нашей серости находить что-то хорошее: зелёную траву, например.
После зимы особенно радует!