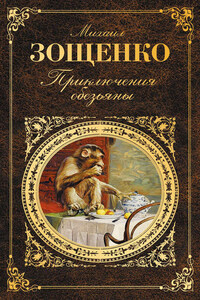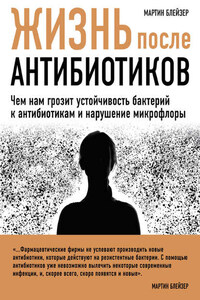Пол был пыльный, усыпанный сухой листвой и мелкими красными ягодами. С первого дня осени наступала пора ветров – служащие храма не подметали полов и не гасили свечей, оставляя им право решать, что нанести в открытую с четырёх сторон галерею и когда забрать огонь, принесённый человеческими руками.
Осень считали лучшим временем для клятв – ходило поверье, что неугодные узлы ветер разорвёт в ту же секунду, как затянутся нити. Погасит свечу в руках принимающего, бросит в лицо дающему горсть песка, и тот закашляется на середине фразы.
Сегодня ветер не поднимался с самого утра. С того мгновения, когда Адлар поклонился бывшему наставнику, принёсшему весть о том, что Совет принял решение, кого преподнести Его Величеству в качестве Дара, а порыв ветра принёс запах жжёной травы.
– На колени, – велел Адлар, не повышая голоса, и через мгновение светлые одежды зашелестели по каменному полу. – Подними взгляд.
Дар помедлил, а после вскинул голову рывком. Дрогнули тонкие губы, словно желая сложиться в ухмылку, но не решаясь. Он был худым, с каштановыми кудрями до плеч. Белое ему не шло, как не шло и выпавшее предназначение. Такие не ложатся на ритуальные знаки, начерченные на земле призрачным золотом, такие плюют на землю, которую им велено защищать, и грызут руки тех, кто попытается удержать. Адлар помолчал, разглядывая незнакомое лицо. Веснушки. Тонкие, почти девичьи брови. Шрам над левым глазом, ровная линия с полпальца. Глаза человека, готового заменить слова клятвы на «ага, уже бегу». Что-то, вероятно, отразилось на лице Адлара, потому что Дар вдруг улыбнулся – некрасиво, одной стороной лица.
– Не нравлюсь?
Адлар вежливо приподнял брови:
– Дающим клятву не положено произносить иных слов, кроме обращённых к Ташш.
– Берущим тоже не положено трепать языком почём зря. И пялиться, как остолоп, не положено. – Он тряхнул головой и весело сощурился: – Не девку в весёлом доме выбираешь.
Взлетела рука в чёрной перчатке – он терпелив, но не идиот, поэтому задержал её в воздухе, и снизу тут же донеслось ехидное:
– Правильно. Не твоё пока.
Адлар опустил руку. Медленно растянул губы в улыбке – той самой, от которой у всех, кроме дурной Радки, жизнь слетала с лица.
– Я твой король, – уронил мягче некуда. – Здесь всё моё.
Дар вздрогнул, словно пощёчина всё-таки досталась ему. Вспыхнуло плохим огоньком упрямство в тёмных глазах – и разгорелось в секунду, заполыхало, когда Адлар выпростал руку и размотал кожаную чёрную ленту, обхватывающую его запястье. Медленно, оборот за оборотом. Запястье обожгло холодом – он не снимал ленту десять лет, и кожа словно забыла, что такое осенний воздух. Адлар сжал конец ленты в ладони, поднял взгляд на Ташш, застывшую посреди галереи, строгую, чернокаменную, смотрящую вперёд. Никто не мог встретиться с ней взглядом – никто не имел права. Скульпторы доносили это очень ясно, из статуи в статую. Ташш держала в вытянутых руках такую же ленту – тонкая полоска белого камня. Ночью он светился, напоённый солнечным светом, так, что слепило глаза.
– Ты, пришедший в храм Ташш добровольно, – не отводя глаз от изваяния, произнёс Адлар, – произнеси свою клятву.
Повисла тишина – и на миг Адлару показалось, что Дар не проронит ни слова. Или засмеётся, или плюнет ему в лицо, и тогда Адлар будет вынужден достать из ножен кинжал и сделать так, чтобы не принёсший клятву никогда не смог произнести никаких других слов.
Но Дар сказал:
– Я тут так же добровольно, как ты, король. Да позволит мне Ташш принять твой дар и служить тебе, пока душа моя не будет отдана до конца.
Ветер взметнул полы его одежд, закрутил листья и ягоды в шальном вихре. Адлар поймал взгляд Дара – уже не Дара, а сосуда, жертвы, его части. Тот смотрел спокойно и ясно, и больше всего на свете Адлару захотелось отшатнуться. Ноги предали его, он покачнулся – и в следующую секунду запястье, недавно стиснутое лентой, обхватили тёплые пальцы.