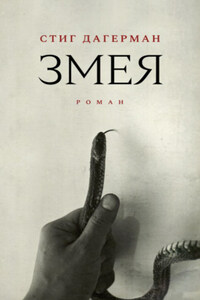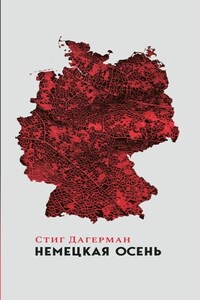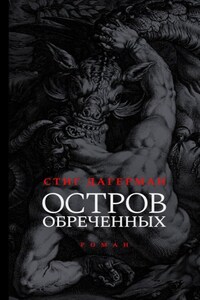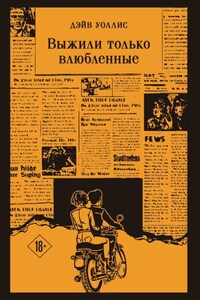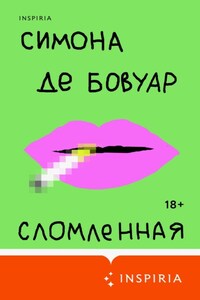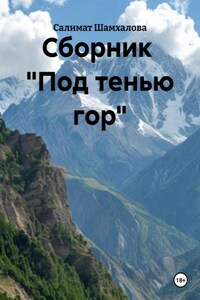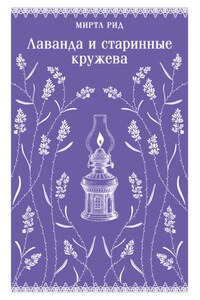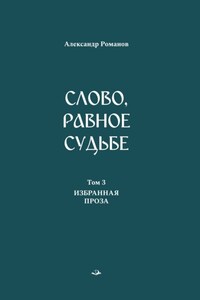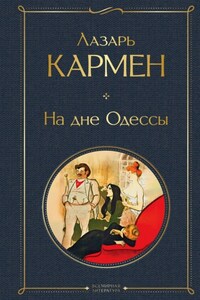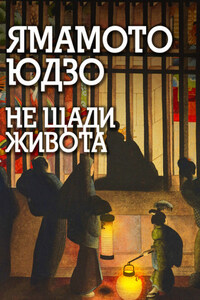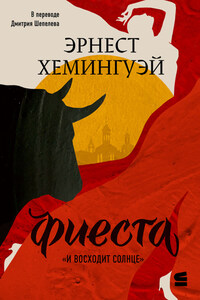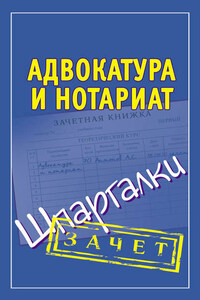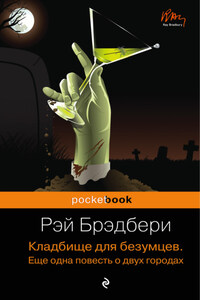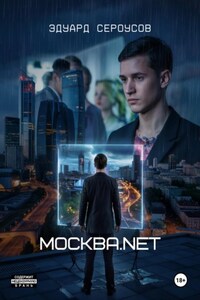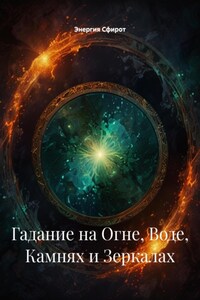Сири Хустведт «Мы – существа нерациональные»
«Змеи на свободе» (Роберт Митчем в фильме «Перекрестный огонь» (1947), режиссер Эдвард Димтрык)
«Змея» – роман, обладающий галлюцинаторной силой, написан человеком, который совсем недавно вышел из подросткового возраста. На момент публикации книги в 1945 году Стигу Дагерману – двадцать два года, и одно это делает роман из ряда вон выходящим явлением в истории художественной литературы. Поэты, музыканты, математики и художники подчас расцветают рано, но романы обычно остаются прерогативой творцов постарше. Подобно Фрэнсису Скотту Фицджеральду, написавшему «По эту сторону рая» в двадцать четыре года, Дагерман быстро завоевал известность, а рано проснувшаяся гениальность стала частью его писательской идентичности.
Это общеизвестный факт, но в чем же сила «Змеи»? Должна признаться, когда я открыла эту книгу в первый раз, меня просто сбил с ног поток метафор и сравнений, которые одна за другой поражали в самое сердце. Я спросила себя, не столкнулась ли я с более причесанной европейской версией Реймонда Чандлера и его прозой в жанре «крутого детектива», но чем дальше я читала, тем очевиднее становилось, что этот роман – совсем другое дело. Он представляет собой текст, в котором метафорическое и буквальное смешаны до такой степени, что под конец полностью сливаются воедино. Этот процесс начинается с самого начала романа, когда рассказчик Дагермана смотрит на вокзал в «изнывающем от жары поселке» знойным летним днем, городок тут же оживает и становится героем книги, когда его «толкают в бок», тем са-мым будто пробуждая к жизни. Тема сна, сновидений и полудремы начинается прямо с этого предложения и раз за разом появляется на страницах романа до самого конца.
В следующих абзацах читатель знакомится с еще несколькими художественными образами, которые становятся структурообразующими для всей книги и время от времени превращаются в реальных существ и предметы: старушка на вокзале с «быстрыми крысиными глазками» становится «крысоглазой»; во рту у ее гротескно изображенной спутницы (которая впоследствии окажется матерью Ирен) подрагивает язык, напоминающий «голову змеи», а поезд разрезает тишину словно «лезвие бритвы». Грызуны, змеи и режущие предметы постоянно возникают в тексте во множестве обличий и воплощений, как и образы рта и горла, желания задушить и самого удушения, желания укусить и страха быть укушенным, подавленных или звучащих криков, молчания и речи.
Композиционно роман представляет собой цепочку историй, которые рассказываются с разных точек зрения. Начинается книга с самой большой по объему части, «Ирен», где повествование ведется от третьего лица, но в роли альтер эго выступает героиня, проникающая во внутренний мир солдата-садиста Билла, а на какое-то время – и сержанта Бумана, который до смерти боится змеи, которую ему показывает Билл. Следующая часть называется «Мы не можем спать», она почти вдвое короче предыдущей, представляет собой коллективный рассказ от первого лица множественного числа и состоит из историй отдельных мужчин, которые вспоминаются героям, когда те лежат в койках, пребывая в состоянии бессонницы и страха. Затем следуют еще пять новелл от третьего лица, все они имеют названия и по объему примерно в два раза меньше второй части романа. Герои этих пяти новелл – новобранцы, с которыми мы познакомились в предыдущей части романа, сами новеллы хронологически не связаны друг с другом. Таким образом, композицию второй части можно с полным правом назвать змееподобной: действие не движется вперед линейным образом, а извивается, сворачивается в кольца и снова разворачивается в историях разных персонажей.