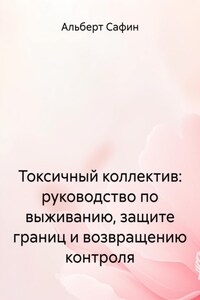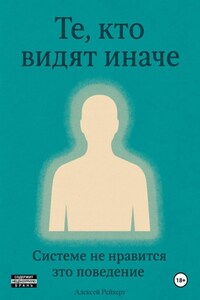Не суди́те, да не судимы будете, ибо…
(Евангелие от Матфе́я,Глава 7)
Всякий живущий, будто на плахе в ожиданьи палача. Для привести себя в беспамятство относительно сего факта, каждый употребляет своё. Один листает страницы книг, не придираясь к мотивам и авторству, другой вчитывается в неразборчивый почерк аптекаря на сигнатурах, иной с подробностию исследует листок с перечнем кушаний в едальне, коих не счесть. Бывают и таковые, что кажется озабочены чужой судьбой более собственной, но не умея принять в ней участие, не тратя сил, следят со стороны. Не разделяя переживаний, судят, как умеют, – правильно ли живут жизнь свою соседи, приходящие к ним визитёры, родычи и прочие званые и незваные гости.
Неведомо, много ли таковых судий на свете, мало ли, но с одной похожей на них особой приходилось не то что встречаться, но даже пребывать в соседстве не один год. Величали особу затейливо – Эммой Эрвидовной. Фамилию её, записанную некогда конторщиком в домовой книге, никто, кроме домоуправа не читывал, а тому держать в памяти название жилицы было не к чему и недосуг. Посему, окликали даму Эрвидовной, чему она препятствий не чинила, отзывалась на отечество с явной охотой. Промеж иванн и петровичей мнила себя Эмма Эрвидовна диковинной птицей, кой с небрежным любопытством разглядывает пегие наряды местных хозяек, что явно проигрывают в сравнении с её пёстрым сиянием. При всём при том, как и при зрелом размышлении, нельзя было б не отметить, что пестрота её отчасти была неуместна и не к месту, подчас, что вовсе не одно и тоже.
Надо сказать, сие обстоятельство не явилось помехой для Эрвидовны. Не сумев найти себя в поприщах, с коими легко управлялись местные, смирившись с укладом их жизни, но не набравшись решимости приобщиться к нему, Эрвидовна освоила не единственное в подобном случае, но лежащее на самом виду искусство порицания.
Судя по ветхости ридикюля, без которого Эрвидовна не покидала своей комнаты, чистоты камня кольца, вросшего в сморщенную кожу мизинца и серебряной ложке с литерой «F»1 прописью – столового прибора, при помощи которого были употребляемы первое, второе блюдо и компот, – Эмма Эрвидовна была совершенной старушкой, но облик имела женственный, с претензией на элегантность. Гримаса недовольства и потребность судить обо всех портили её видимость, о чём она вероятно, не догадывалась, либо не принимала на свой счёт, а то и вовсе причисляла к наветам завистников.
Итак, напившись кофию и прибрав за собой, – непорядка Эрвидовна не терпела, – она присаживалась у приоткрытого окошка своей комнаты, что, к несчастью соседей выходило во двор, и принималась осуждать. Всех и вся, громогласно, с очевидным удовольствием, с оттяжкой, как обыкновенно секут розгами. Иногда, редким случаем, не преминув высказаться напрямки,. Она делала это хлёстко, метко, изощрённо от того. И хотя выходило несколько грубо, оставляло после себя оскомину прозвищ, обиды и слёзы, соседи сносили молча, словно стесняясь охолонить гражданку, может, жалели даже. Мало ли, одиночество на всяком сидит по своему. Один тихо тает свечкой, а другой – криком кричит… Каждому – своё2.
– Что-то вы, батенька, постарели сильно!
– А вы, как я погляжу, не поумнели!
– Ха-ха-ха! Ты не изменился! Ну, здравствуй, дорогой! Давно не видались!
– Рад лицезреть тебя в здравии!
– Да где там, какое здоровье. В зеркала уже и не смотрюсь, боязно. Сморщился, как тот изюм.
– А ты не барышня, чего тебе там разглядывать! К тому ж, морщины, они понимаешь, примета…
– Старости!?
– Ну не мудрости же, Господь с тобой!
– Как я рад, как я рад нашей встрече!..
…Морщины? То от дум, ещё скорее, – растянутая слезами, либо набрякшая кожа, омытая водами многих… немногих лет. А в глубине тех, то мутных, то прозрачных до невидимости вод, чего только нет.