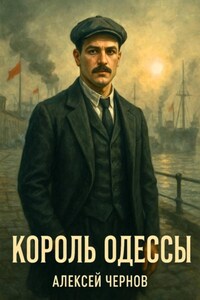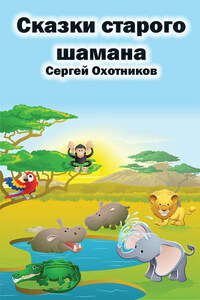Глава 1: Трещина в Чашке Петри
Тьма. Не просто отсутствие света, а густая, ледяная субстанция, проникающая в уши, ноздри, под веки. Она давила грудь стальным обручем. В ушах рёв, грохочущий, как будто гигантский, невидимый мотор, крутится где-то в бездонной глубине земли. Горло сжалось в спазме, перекрывая последний глоток надежды.
Он бился, беспомощно, как мотылек на поверхности смолы, руками, ногами, пытаясь оттолкнуться от скользкой, невидимой стены. Вода, тяжелая и мутная, вливалась в нос, в рот, заполняя легкие. Воздуха! Нет воздуха! Над головой, сквозь толщу мути, мелькал зеленоватый, искаженный, дрожащий свет поверхности. Такой близкий. Солнечный. Жизнь. Такая недостижимая пропасть отделяла его от него. Тону… Все кончено…
– Доктор? Доктор, вы меня слышите?
Зеленый свет растворился, как мираж. Его сменил тусклый, желтоватый отсвет лампы на потолке его собственного кабинета. Потолке, пересеченном извилистой, серой трещиной. Она начиналась над дверью, петляла, как река на древней карте неведомых, враждебных земель, и терялась в углу. Антон моргнул, изгоняя остатки паники, липкий привкус речной воды и детского ужаса.
Он помнил. Ему девять лет. Жаркое, пыльное лето, пахнущее пыльцой и нагретым асфальтом. Река за поселком, мутная от глины. Пацаны, орущие от восторга у старой, полуразрушенной плотины. Он поскользнулся на мокром камне. Сильное, коварное течение – не вода, а живая, холодная рука – схватило за ногу, как стальными клещами, и потащило вниз, в черную пасть под бетонными плитами. Паника, сжимающая сердце ледяным кулаком. Темнота, абсолютная, слепая. Гул воды, заглушающий собственные вопли, превращающий их в бульканье. И потом – чудо. Сильные, жилистые руки, вцепившиеся в его футболку, выдирающие из холодной, мокрой могилы на ослепительный, задыхающийся от жары берег. «Жить – значит бороться, пацан! Не сдавайся!» – хрипел над ним незнакомый мужик в застиранной тельняшке, сам кашляя и выплевывая воду. Антон лежал на песке, плакал и кашлял, чувствуя, как жизнь возвращается обратно, обжигающая, горькая, но и невероятно сладкая. Борьба. Тогда ему помогли, он выиграл.
А сейчас? Сейчас за грязным, заляпанным дождем окном мутнел серый ноябрь. Воздух растекся меж домами как бульон, сваренный из несбывшихся надежд и мелких ежедневных поражений. Где-то на окраине города, в такой же серой хрущевке, его мать, наверное, пила свой вечерний чай из старой, с отбитой ручкой чашки – он звонил ей в прошлом месяце? В позапрошлом? Перевод в пять тысяч, отправленный неделю назад, лежал мертвым грузом на совести – "алименты", как он мысленно называл эти редкие подачки.
Кабинет был похож на картонную коробку, собранную на скорую руку из тонких, гулких гипсокартонных перегородок. Они не скрывали звуков – скрип стульев из соседнего «офиса», глухое жужжание принтера, чьи-то приглушенные шаги. Антон сидел напротив женщины лет шестидесяти. Ирина Петровна. Она плакала. Не рыдала громко, а тихо всхлипывала, сдерживаясь, словно боялась нарушить гнетущую, пыльную тишину кабинета, разбудить что-то спящее в углах. Ее пальцы, обвивавшие дешевую керамическую чашку с «Жокеем» – чашку с мелким цветочком, – мелко, мелко дрожали. Как крылышки пойманной мухи.
Тремор пальцев, – автоматически зафиксировал Антон, его взгляд стал острым, профессиональным, на миг отбросив усталость. Выраженная симпатикотония. Вегетативная лабильность. Пульс – явно за 90. Дыхание поверхностное, грудное, прерывистое – верхушками легких. Данные. Сухие. Клинические. Бездушные. Как он сам в последнее время? Он мысленно отшвырнул этот вопрос. Перед ним была Ирина Петровна, нервно теребящая край старенькой, выцветшей кофты из синтетики, от которой пахло нафталином и старыми страхами. Ее глаза, красные, опухшие от слез, смотрели на него не просто с ожиданием – с мольбой. Как на последнего оракула в храме разбитых надежд.