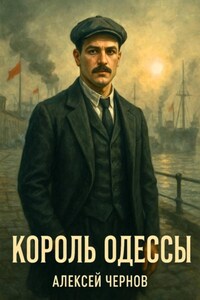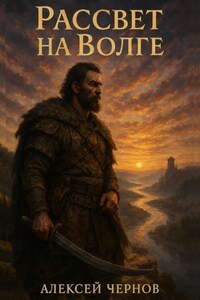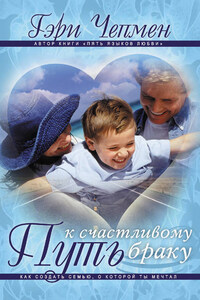Глава 1. Возвращение Мишки Япончика
Весна 1917 год.
Город гудел, словно огромный портовый котёл, в котором закипала неведомая, грозная эпоха. Запах солёного моря, живого и терпкого, смешивался с едкой гарью угля, сладковатым ароматом жареной барабульки и чем-то ещё – металлическим, почти осязаемым, как предчувствие надвигающейся бури.
Ветер с рейда нёс в переулки сырость, а вместе с ней – тревогу, которая оседала в груди у каждого, кто вдыхал этот воздух.
На улицах шептались о мире и смеялись слишком громко, будто старались заглушить внутренний страх, убедить себя, что жизнь всё ещё течёт по старым рельсам.
Но даже в привычном гомоне Привоза, в звоне трамваев и криках разносчиков, чувствовалась трещина – тонкая, но уже необратимая. Город дышал натужно, словно предчувствуя, что завтрашний день может не походить на вчерашний.
Пульс Одессы бился неровно. Где-то в подворотнях спорили о новой власти, где-то плакали над письмами с фронта, а кто-то, стиснув зубы, точил нож, не зная, для чего он пригодится – для защиты или для мести.
Воздух был пропитан ожиданием: то ли свободы, то ли хаоса. Над всем этим витал запах кофе из крохотных лавочек, смешанный с вонью прогорклого масла и мокрой шерсти – запах жизни, которая, несмотря ни на что, цеплялась за каждый новый день.
***
У ворот старой мастерской, где облупившаяся краска на вывеске давно выцвела, стоял молодой человек. Чёрное пальто плотно обтягивало его узкие плечи, тёмный галстук был завязан чуть небрежно, а волосы, блестящие от утренней влаги, зачёсаны назад.
Глаза – тёмные, внимательные, словно всегда взвешивающие невидимые риски, – выдавали в нём того, кто привык видеть больше, чем говорят. Это был Мойше Япончик, а для своих, на Молдаванке, просто Мишка – имя, которое произносили с теплотой, но и с опаской.
Говорили, прозвище прицепилось ещё в детстве – за узкий разрез глаз и хитрую улыбку, что мелькала на губах, когда он выкручивался из очередной передряги.
Но теперь никто уже не вспоминал, откуда взялось это «Япончик». Имя стало символом, паролем, знаком – его произносили по-одесски, нараспев, с какой-то особенной нежностью, смешанной с уважением.
Он закурил, прикрыв огонёк ладонью от настырного ветра с моря. Тот гонял по мостовой пыль и обрывки газет, принося запахи ночи: керосин, мокрая верёвка, тающая соль.
Дым от папиросы смешивался с утренней сыростью, и Мишка невольно вдохнул глубже, словно пытался уловить в этом воздухе намёк на грядущее.
Из глубины двора доносились глухие удары молотка – кузнец правил подкову, не обращая внимания на ранний час. Где-то рядом сварливо переругивались дворовые, а из открытого окна выплывала хрипловатая песня, которую тянул пьяный голос.
Жизнь, как ни странно, продолжалась – со своими заботами, ссорами и смехом. Но Мишка кожей чувствовал: старый мир трещит по швам, и вот-вот рухнет, обнажив что-то новое, пугающее, но неизбежное.
С тех пор как с фронта потянулись солдаты – хмурые, измождённые, с глазами, в которых застыла пустота, – Одесса перестала быть прежней. Они приносили с собой не только запах пороха и грязи, но и гнев, который копился где-то глубоко внутри.
Город разучился бояться – или, может, просто устал от страха, что было куда опаснее. На каждом углу теперь можно было услышать, как кто-то проклинает царя, кто-то – новых правителей, а кто-то просто шептал, что «всё пропало».
Мишка шёл по улице медленно, вглядываясь в лица прохожих. Из-под арок вываливались люди: матросы с обветренными щеками, торговки с корзинами, нищие, тянущие за рукав, девчонки в ситцевых платьях, хихикающие над чем-то своим.
На каждом шагу – слухи, обрывки новостей, домыслы. Власть сменилась, потом ещё раз, и снова – словно в калейдоскопе, где каждый поворот рождает новый узор, но всё такой же бессмысленный. Сотни знамен, лозунгов, прокламаций, а в итоге – лишь пустота и неуверенность.