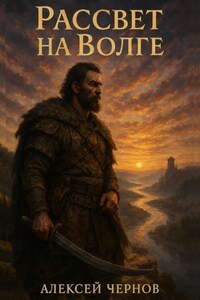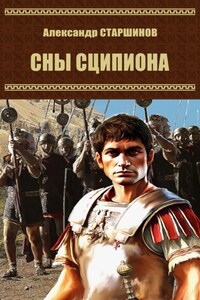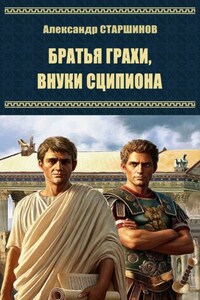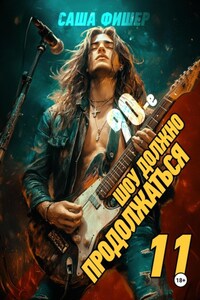Анатолийская земля дышала зноем, густым, как pekmez (пекмез – виноградная патока). Полуденное солнце, стояло в самом зените своей власти, заливая долину пограничной реки Сакарья расплавленным золотом и заставляя воздух дрожать над раскаленными камнями.
Даже тени от редких, горделивых платанов, казалось, съежились, предлагая лишь призрачное спасение от всепроникающего жара. В такие часы жизнь в стойбище племени Кайы, раскинувшем свои черные, просмоленные шатры – просторную oba (оба – кочевой лагерь) – у лесистого подножия горы Доманич, замирала, словно подчиняясь древнему, неписаному закону полуденной сиесты.
Лишь неумолчный, почти металлический стрекот цикад да редкое, ленивое фырканье коней, стоявших на привязи в тени навесов, нарушали эту тягучую, знойную дремоту.
Осман, младший сын недавно покинувшего этот бренный мир Эртугрула-бея, стоял на невысоком, но стратегически выгодном холме, откуда вся долина простиралась как на ладони. Ему едва минуло двадцать три года – возраст, когда кровь в жилах бурлит, как молодой şarap (шарап – вино), а сердце неудержимо жаждет подвигов, славы и признания. Однако сейчас его лицо, уже обветренное степными ветрами и тронутое стойким загаром до благородного цвета старой меди, выражало серьезность, свойственную скорее мужу зрелых лет, обремененному грузом ответственности.
Черные, как полированные агаты, глаза, унаследованные от матери, Халиме-хатун, внимательно, почти хищно изучали горизонт, словно пытались разглядеть там не только дрожащее марево над выжженной травой, но и саму туманную, непредсказуемую госпожу Судьбу – kader (кадер – судьба, рок). Он искал знаки, предзнаменования, что-то, что подтвердило бы смутные, но настойчивые предчувствия, терзавшие его душу.
Рядом с ним, чуть поодаль, примостился на выщербленном сером валуне Акче Коджа, один из самых верных и испытанных alp (алп – воин, витязь) его покойного отца, а ныне – его собственный наставник, советник и, можно сказать, живая летопись племени.
Густая, как снег на вершинах Улудага, седая борода Акче Коджи спадала на широкую, все еще могучую грудь, а глаза, хоть и выцветшие от безжалостного времени и многих битв, все еще сохраняли орлиную зоркость и мудрый, всепонимающий блеск.
Он был одним из тех немногих, кто помнил еще деда Османа, Сулеймана Шаха, и долгий, полный опасностей исход Кайы из глубин Азии.
– Все спокойно, beyim (беим – мой господин), – произнес старик своим рокочущим, привыкшим отдавать команды голосом, не поворачивая, однако, головы. Его взгляд был устремлен туда же, куда и взгляд Османа – на запад, в сторону византийских рубежей.
– Румы, византийцы то есть, после последней хорошей трепки, что мы им задали у Инегёля, сидят в своих каменных крепостях тише мыши под веником. Их tekfur (текфур – византийский наместник, правитель крепости) из Биледжика, говорят, даже подумывает прислать дары. İnşallah (Иншаллах – если на то будет воля Аллаха), этот страх продержится подольше.
Осман медленно, задумчиво кивнул, не отрывая взгляда от едва различимой вдали серебристой ленты реки.
– Тишина, Акче-ага, бывает обманчивее любого крика. Иной раз она предвестник бури, а не затишья. Слишком уж они тихи, эти текфуры. Словно yılan (йылан – змея), пригревшаяся на солнце, – мягко стелет, да больно жалит.
А вести от сельджукского султана из Коньи, что доходят до нас с караванами, все тревожнее и тревожнее. Власть его, говорят, стала тенью самой себя, а визири плетут интриги, не стесняясь белого дня.
Великие бейлики вокруг – Караманиды, Гермияниды – все больше смотрят на собственные нужды и выгоды, забыв о былом единстве.
Devlet (девлет – государство, держава) распадается на куски, как старый, изъеденный молью ковер. И каждый норовит урвать лоскут побольше.