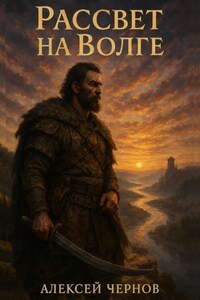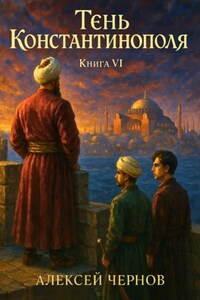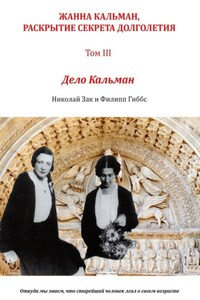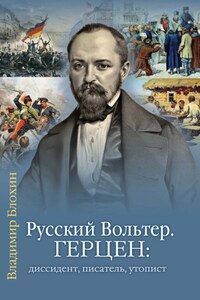Июнь, 1938 год. Усманский бор, Воронежская область.
Лес встречал Дмитрия тишиной. Такой густой и всеобъемлющей, что поначалу закладывало уши, словно после оглушительного крика. Он сделал несколько шагов с опушки вглубь, под сень вековых сосен, и шум внешнего мира – далекий скрип телеги, женские голоса, доносившиеся от села, – мгновенно исчез, поглощенный мягким ковром из опавшей хвои.
Здесь были только свои звуки. Мерный, успокаивающий стук дятла где-то в вышине. Шелест ветра в тугих, смолистых кронах. Едва слышный шорох ящерицы в сухом папоротнике.
Дмитрий прикрыл глаза и втянул носом воздух. Воздух был его главным инструментом, надежнее любого компаса. Он пах влажной после ночного дождя землей, прелой листвой и, конечно, сосной.
Этот горьковато-сладкий, чистый запах был запахом его детства, его дома, его жизни. Он мог с закрытыми глазами определить по нему, в какой части бора находится: здесь, у старого оврага, в смолистый дух вплеталась нотка сырости и грибницы.
Дальше, у торфяных болот, воздух становился тяжелее, пах багульником и застоявшейся водой. А на солнечных полянах к нему примешивался медвяный аромат чабреца и лесных цветов.
Он присел на корточки и провел ладонью по узору на коре старой сосны. Кора была как лицо старика – морщинистая, теплая, мудрая. Он знал это дерево с тех пор, как был мальчишкой и едва мог обхватить его ствол руками. Он знал каждую трещинку на нем.
– Здравствуй, старый, – тихо проговорил он вслух, и лес, казалось, ответил ему тихим вздохом ветра.
Здесь, в лесу, он не был просто Дмитрием Яблочкиным, помощником лесника. Он был частью чего-то огромного, древнего и настоящего. Он был на своем месте.
– Опять с деревьями разговариваешь? – раздался за его спиной насмешливый, но добрый старческий голос. – Смотри, Дима, люди увидят, скажут – лесник наш умом тронулся.
Дмитрий улыбнулся и, не оборачиваясь, ответил:
– Они больше правды скажут, чем иные говоруны в сельсовете, отец.
Иван Яблочкин, потомственный лесник, подошел к сыну. Он был невысок, кряжист, с окладистой седой бородой и лицом, которое, казалось, было выдублено ветрами и солнцем.
Он двигался по лесу бесшумно, как лесной зверь, и от него всегда пахло так же, как и от самого леса – сосной, дымком и сухими травами.
– Ну, что скажешь? – спросил отец, кивнув на едва заметную тропу. – Твои мысли?
Дмитрий снова провел пальцами по земле, потрогал сломанную веточку.
– Чужой ходил. Ночью. Не наш, не из Икорца. Наши так не ходят. Гляди, – он указал на след. – Сапог фабричный, каблук стерт с одного боку. Идет тяжело, землю мнет. Значит, нес что-то. Мешок, скорее всего.
– А еще? – хитро прищурился отец.
Дмитрий помолчал, прислушиваясь к своим ощущениям.
– Боится он. Торопится. Ветку сломал – не заметил. Птицу спугнул – не услышал. Он лесу чужой. И лес его не принимает. Браконьер. На кабаньей тропе силки ставил, скорее всего.
Отец одобрительно крякнул.
– Глаз у тебя верный, сын. Как у меня в молодости. Даже вернее, пожалуй. Я этому тридцать лет учился, а тебе оно будто с кровью передалось. Пойдем, снимем его петли, пока делов не натворил.
Они пошли по следу, и между ними установилось то самое комфортное молчание, которое бывает только между очень близкими людьми, понимающими друг друга без слов. Отец шел впереди, легко и уверенно, а Дмитрий следовал за ним, впитывая каждый его жест, каждый взгляд.
– Лес, Дима, он как человек, – вдруг заговорил отец, не оборачиваясь. – Он может накормить, укрыть, вылечить. Все, что тебе для жизни нужно, в нем есть. И коренья, и ягода, и зверь. Вода чистая. Дерево для дома.
Но горе тому, кто придет к нему со злом или из страха. Такого он запутает, заведет в болото, оставит ни с чем. Лес силу чувствует. Уважение. Если ты его уважаешь, он тебе всегда поможет. Запомни это.