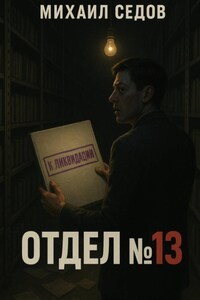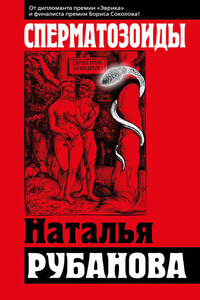Будильник ударил в шесть утра, как обухом по голове. Звук был не просто громким – он был физически ощутимым, вибрирующим, въедающимся в кости черепа. Андрей Селиванов не открывал глаз. Он лежал на спине, глядя сквозь сомкнутые веки на серую изнанку мира, и слушал. Дрель будильника сверлила тишину еще секунд десять, пока рука сама, отдельно от сознания, не нашла на тумбочке рифленый рычажок и не оборвала пытку.
Тишина, вернувшаяся в комнату, была тяжелой, как мокрое сукно. Она пахла вчерашним табачным дымом, остывшим чаем и одиночеством. Селиванов открыл глаза. Потолок. Белый, но с сероватым налетом, словно присыпанный пеплом. Паутина трещин расходилась от центра, где когда-то висела люстра, к углам. Карта неизвестной, несуществующей страны. Он знал ее наизусть. Каждую реку, каждый горный хребет.
Он сел на кровати, свесив ноги. Холодный линолеум обжег ступни. Тело ныло, каждая мышца протестовала против пробуждения. Сон не принес отдыха, он лишь перетасовал вчерашнюю усталость, сделав ее более вязкой, безнадежной. В зеркале треснувшего трюмо отразился незнакомый, помятый мужчина лет пятидесяти. Высокий, сутулый, с глубоко запавшими глазами, окруженными сетью морщин, которые не имели никакого отношения к смеху. Селиванову было сорок два. Он провел рукой по колючей щеке. Надо бриться. Надо. Но не сейчас.
Кухня встретила его тем же унынием. Шесть квадратных метров казенного уюта. Кран над раковиной методично ронял капли в эмалированную мойку со сколом у слива. Кап. Кап. Кап. Пульс этого дома, этой жизни. Селиванов поставил на газовую конфорку алюминиевый чайник, черный от копоти. Пока вода неохотно набирала тепло, он стоял у окна.
За стеклом начинался день. Такой же серый, как потолок в его спальне. Ноябрь в Верхотуринске-4 не знал других цветов. Небо было низким, брюхатым, готовым в любой момент разродиться мокрым снегом. Снег здесь всегда был серым. Он падал уже серым, пропитанный дымом металлургического комбината, чьи трубы, похожие на жерла доисторических орудий, торчали на горизонте. Дым был постоянной, неотъемлемой частью пейзажа, вторым небом над городом. Он оседал на панельных пятиэтажках, на голых ветках тополей, на душах людей.
Селиванов смотрел на двор-колодец. Женщина в телогрейке выбивала на турнике облезлый ковер. Глухие, частые удары разносились по двору. Старик с авоськой, в которой угадывались две бутылки молока и батон, медленно брел к своему подъезду. Обычная жизнь. Рутина. То самое болото, которое засасывает медленно, но неотвратимо. Он закурил. Первая сигарета за день всегда была самой горькой и самой нужной. Дым наполнил легкие, притупляя утреннюю тошноту.
Чайник засвистел – тонко, надрывно, как будто жалуясь на свою участь. Селиванов заварил в граненом стакане индийский чай, тот самый, «со слоном», который считался дефицитом и достался ему по случаю от завхоза прокуратуры. Насыпал две ложки сахара. Отхлебнул. Горячая, сладкая жидкость обожгла горло. Завтрак следователя по особо важным делам. Бутерброд с докторской колбасой, купленной вчера после часового стояния в очереди. Колбаса пахла бумагой и крахмалом. Мяса в ней было не больше, чем правды в партийных лозунгах. Он съел его механически, не чувствуя вкуса.
Одевался он в той же последовательности, что и вчера, и год назад. Чистая, но застиранная рубашка. Темно-серый костюм, немного мешковатый, потерявший форму, но еще крепкий. Стоптанные ботинки, которые он каждый вечер чистил до матового блеска. Это был ритуал, осколок армейской дисциплины, единственное, что еще как-то держало его в рамках. На стене в прихожей висела фотография в простой деревянной рамке. Девочка лет десяти, с двумя смешными косичками и щербинкой между передними зубами, смеялась прямо ему в лицо. Лена. Дочь. Он смотрел на нее каждое утро. Смотрел и старался ничего не чувствовать. Потому что если начать чувствовать, то можно не дойти до двери. Он провел пальцем по стеклу, коснулся ее улыбки. Дверь за ним захлопнулась с глухим, окончательным стуком.