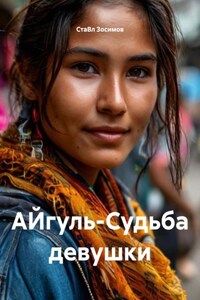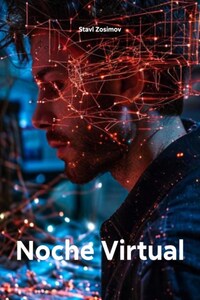Худые руки с морщинистыми ладонями опустились на стол из лабанского кедра[1]. На таком же морщинистом и изможденном лице застыло выражение обреченности. Черные глаза, в которых плясали отблески пламени треножника, отрешенно смотрели в пустоту. Кувшин из-под вина был осушен, а с глиняной тарелки хлебные крошки исчезли так давно, что никто не помнил, когда их съели. Белоснежная рубаха, шитая пурпурными узорами цветов лилии, свободно болталась на животе.
«А ведь раньше она едва не рвалась на нем» – невольно подметил голубоглазый воин с темными, как смоль, волосами, волнами спадавшими до плеч.
Он стоял возле входа, сцепив пальцы на поясе, и внимательно наблюдал за тем, что осталось от некогда былого величия правителя Мегиддо[2]. Впалые щеки, потерянный взгляд, всклокоченная борода. Руки тряслись, как у запойного пьяницы. Асанха вздрагивал при малейшем шорохе. Вот только в последние дни за стенами крепости стояла мертвая тишина. Такая же, как и тела на улицах, раскаленных жарким солнцем. И это безмолвие било по ушам сильнее оглушительного набата.
Он помнил. Прекрасно помнил тот день, когда стены города впервые содрогнулись от его эха… когда войско Божественного Херу внезапно показалось из ущелья. Никто не ожидал, что тот осмелится пройти там… и сделает это так быстро.
Сухой язык облизал потрескавшиеся губы. Асанха тихо просипел:
– Почему?
– Господин?
Воин слегка повел плечами. Стоять в кожаном нагруднике почему-то стало неудобно. Слишком сильно терло плечи.
– Почему он не помог нам?
Голубоглазый тяжко вздохнул:
– Я ведь говорил тебе, господин. Владыка Шауштатар не хочет оголять северные рубежи. Основные силы нужны там, если хатти[3] решатся воспользоваться нашей слабостью.
Асанха перевел взор, полный безумия и отчаяния на воина, и тому стало не по себе:
– А это что? Что это? Это разве не слабость? Мегиддо падет… и… и… и что тогда? Что помешает ему… возомнившему себя богом… напасть на Митанни с юга? Клянусь Шимеги[4], что испепеляет нас… так оно и будет! Так… оно… и будет! Разве я не прав… Ун-Хари?
Короткая, сбивчивая речь истощила последние силы. Асанха закашлялся, снова провел языком по губам. В городе не осталось и капли, чтобы смочить их.
«Ты прав, царь, – подумал воин, – не стоило недооценивать его» – вслух же сказал:
– Потому должны держаться, сколько сможем.
Хотя сам чувствовал, что надолго его не хватит. Голод, подобно остервенелому червю, жрал изнутри, подтачивая силы. Скоро он не удержит собственный меч. Горло жгло, будто в него засыпали горсть песка.
– Сколько сможем, – откашлявшись, тихо и с усмешкой повторил Асанха, – сколько сможем, – опираясь о желтоватую стену, царь поднялся, ноги его тряслись, – я… я не могу больше ждать.
Ун-Хари напрягся:
– Что ты намерен сделать, господин?
Безумный взгляд правителя нравился ему все меньше.
– То… что следовало сделать уже давно.
Асанха пошатнулся, ухватился за стол, сипло вдохнул и выдохнул. К безумию во взгляде примешалась упрямая решимость.
– Куда ты, господин?
– Отдать приказ… пусть стража откроет… ворота. Сдадимся на милость победителю, раз… раз… раз Владыка Митанни бросил нас.
– Ты не в праве принимать решение без слова правителя Кадеша[5]…
Ун-Хари не договорил, ибо Асанха зашелся хриплым смехом:
– Мой несчастный брат уже… уже… – снова кашель, – уже не в силах влиять… ни на что. В его теле не осталось и капли… жизни.
Воин нахмурился.
«Плохо дело. Но я не позволю им сдать город».
Когда Асанха, покачнувшись, отпустил стол и сделал неуверенный шаг к выходу, Ун-Хари решительно преградил путь. Губы царя сжались в упрямую линию. Огонь безумия в глазах разгорелся лишь сильнее.
– Уйди с дороги, Ун-Хари. Не мешай исполнять мне собственную волю.