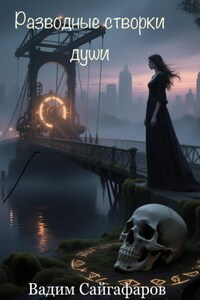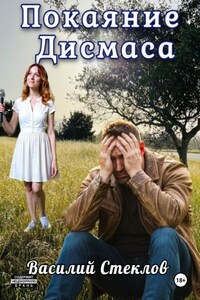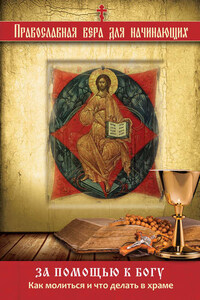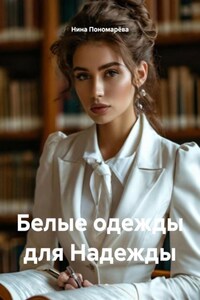«Если я так МАЛО люблю Бога, и так СИЛЬНО тоскует душа моя по Господу, то сколь велика печаль была у Божией Матери, когда Она оставалась на земле после Вознесения Господня?»
Силуан Афонский.
Той, Которая хранит нас в утробе матери и во чреве мiра. Провожает новорождённых по родовым путям и новоусопших по путям смерти. Той, Кто болеет с нами, но Ей больнее, чем нам. Радуется с нами, но Ей радостнее, чем нам. Страдает, когда мы равнодушны, борется, когда мы бессильны, добра, когда мы злы. Той, Кто отирает пот усталости с наших лбов, когда мы Распинаем Её Сына.
1. Хана гуляла с Марьям в цветущем саду. Подносила младенца к деревьям и наклоняла ветви. Девочка прикасалась к листьям. Сминая их неловкими пальцами, заставляла источать кисловатый аромат зелени. Трогала соцветия губами. Но только с иудина дерева сорвала малиновый лепесток, и тут же заплакала, словно пожалев об этом.
Хане казалось, цветы пахнут раем. Ей хотелось, чтобы Марьям запомнила весенний воздух, впитавший благоухания многих растений – тяжёлый, но прекрасный, как завеса в Храме, – и сохранила воспоминание о запахе. Чтобы он снился ей.
Прошлогоднее воробьиное гнездо на лавровом кусте снова жило, – Хана порадовалась, увидев блистание коротких коричневых молний сквозь мозаику изумрудной листвы. Гнездо в кусте было как огонь в сосуде, разбитом, но ещё не распавшемся на остроконечные осколки.
Хана поставила Марьям на молодую траву и медленно развела ладони в стороны, как гончар, решивший посмотреть, что получилось у него на круге. Девочка стояла, покачиваясь, балансируя ручками, разомкнув уста. Затем сделала шаг, потянулась к розе и достала из её шёлковой купели, полной росы, тонущего жука. Он висел на пальце Марьям, обхватив его двумя лапками, остальными пытаясь нащупать более привычную опору. Девочка ссадила его на листок, шагнула ещё раз, и, подняв семечко, бросила вперёд. Семя тотчас склевала горлица с прозрачными на солнце крыльями, не решавшаяся подлететь за ним слишком близко к ступням Ханы. Шагнув снова, Марьям задела клейкий листок и освободила прилипшую к нему маленькую бабочку, полетевшую прочь неверно, словно прихрамывая на одно крыло. Шаг – и Марьям, присев на корточки, взяла с муравьиной тропы сорванный цветок, слишком большой для того, чтобы мураш мог взвалить его на узкую лакированную спинку, и переложила на муравейник. Красное расплескавшееся пятно цветка тут же подёрнулось чёрной ряской бессчётных муравьёв, а тот, что нашёл цветок, свернул за более лёгкой ношей.
Девочка ступила в сторону и, сцарапнув втоптанный в дорожку росток, будто каким-то чудом подняв с земли изображение, расправила безвольный, почти умерший стебель, и обвила вокруг лодыжки сиреневого куста.
Затем, подавшись на шаг назад, укрыла лепестком магнолии обнажившуюся кладку мушиных яичек, похожую на волдырь от ожога, который оказался не на чьём-то пальце, а на ветке кустарника.
Хана встревожилась, видя, как, едва начав ходить, её дочь тотчас погрузилась в облако чужих забот: «Даже играя, она словно невзначай делает добро. Верно, её жизнь должна пройти при Храме. Вот бы Марьям не ступать больше по земле, пока не войдёт в Храм. Иначе земля вцепится в неё своими бесчисленными руками, протянутыми в мольбе о помощи, и затянет в самый дальний свой угол. И Марьям не успеет вдохнуть неба». Ощутив беспокойство матери, Марьям шагнула в её объятия, как в ворота рая, и тем утолила её печаль.
2. После осенних праздников Йехойаким созвал близких и коэнов из родни, пригласил соседей. Гости возлежали на кровле, разделённые дымными перегородками света, распылённо струившегося сквозь виноградные плети. Только Шимон Бен Байтос сидел на единственном кресле, с золотым, взятым Йехойакимом взаймы, блюдом на коленях, и смущал собравшихся римской сандалией, высунувшейся из-под одежды, – это было модно и вызывающе, престижно и одновременно намекало на позор коллаборационизма. Шимон лет десять как пришёл в Иудею из Александрии, где родился в ассимилированной семье, и всё ещё не оставил эллинских ухваток. Десять лет он сетовал, что в его возрасте трудно совершать алию и перенимать отеческий образ жизни, и ничего не менял, и все привыкли терпеть его, как терпят больных.